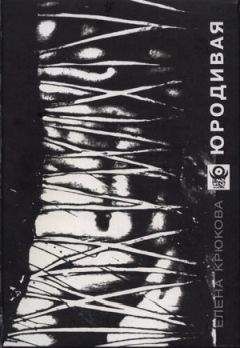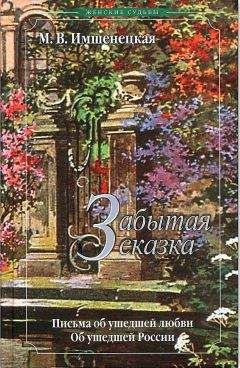Ксения Велембовская - Дама с биографией
– Теть Люсь, а можно еще компотику? Капельку?
– Капельку? Можно, – обрадовалась она возможности пошутить. Капнула в его уже дважды опустошенный стакан одну лишь капельку, как Гундарева в фильме «Подранки», и в ответ на обиженно-изумленную физиономию с ехидством укорила мальчишку: – Эх, Тимофей, темный ты человек! Не знаешь советской кинематографической классики… На, на, держи свой компотик. Но на этом, господа хорошие, завязываем с чревоугодием, собираем со стола и переходим к химии.После третьего стакана насыщенного, сладкого компота из мороженых фруктов Тимка объявил, что объелся до обморока, и, прерывисто дыша, как спринтер на финише, завалился с мобильником на диван. Поразвлекался, нажимая на кнопочки, а потом, как услышала Люся из кухни, позвонил матери – бодренько, по-деловому: «Ага, я!.. У дяди Кости, конечно!.. Да, занимаемся. Вовсю. Устал даже. Думаю, может, по такому случаю я останусь здесь ночевать?.. Можно?.. Спасибо, мам!»
Всякий раз, когда он разговаривал с матерью, Люся не могла избавиться от ощущения, что Виктория здесь, рядом. Сегодня же, когда расплывчатый образ докторицы в белом халате трансформировался, сделался куда более отчетливым, живым, реальным, а главное, выяснилось, что Викторию с Костей крепко связывает не только прошлое, но и настоящее – Тимка, это ощущение стало особенно тягостным, просто невыносимым.
Осуждающий Куркиных за неприобщение ребенка к мировой культуре, Костя почему-то не озадачивался тем, что парня уже давно пора приобщать к культуре общежития: вместо того чтобы мобилизовать обжору, которому очень полезно было бы подрастрястись, Костя таскал на кухню грязную посуду сам. Чуть ли не бегом. Так ему не терпелось перейти к химии. Еще бы, столько готовился! Побоку любовь-морковь, Костенька теперь все будние вечера посвящает штудированию школьных учебников и методичек по сдаче этого треклятого ЕГЭ. Позвонишь ему – он витает в облаках. Опомнится, обрадуется, ласково помурлычет и вдруг резко, без перехода, снова о том же: «Знаешь, Люсечка, я убежден, что, если взрослый человек поставит себе задачу обучить ребенка чему бы то ни было, пусть даже китайскому языку, он сделает это лучше любого равнодушного профи!» Голос радостный, первооткрывательский. Ни дать ни взять Дмитрий Иваныч Менделеев, открывший по утрянке периодический закон. Молодец, конечно, спору нет, однако и кайфа от разговора с ним тоже нет…
– Кость, задержись на минутку. Ну не беги ты, умоляю! Мне нужно сказать тебе кое-что.
Спина в домашней клетчатой ковбойке застыла в дверном проеме, распрямилась, и суетливый половой с полотенцем через руку наконец-то превратился в нормального мужика, способного и обнять, и пощекотать щеку любимой женщины сексуально колючей бородкой, и со значением заглянуть в глаза:
– Надеюсь, ты не покинешь нас сегодня?
– Покину… – шепнула она в целующие ее украдкой губы: при Тимке негоже придаваться нежностям. В объятиях милого Котика-братика желание уехать сразу сменилось желанием остаться, но, как только он отступил на шаг, это желание пропало. – Извини, я поеду. У меня дома гора не сделанной к понедельнику работы, а кроме того… мне неловко ночевать у тебя, когда… – Чтобы не противопоставлять себя Тимке, она не стала говорить «когда здесь Тимофей», сказала: – Когда мы не одни. Тебе и самому, я знаю, неловко. Ведь правда?
– В общем, да, – признался он с виноватой улыбкой, снова обнял на секунду – в благодарность за понимание – и понесся химичить.
– Кость, не забудь покормить Филимошу! И кинь в стиралку Тимкины джинсы! – с раздражением крикнула она, прямо как жена с двадцатилетним стажем, и, услышав уже совсем безучастное, лишь бы отвязаться: «Да-да, конечно», – почувствовала, как к горлу снова подступают слезы: еще три месяца назад Костя ни за что не отпустил бы ее домой в субботу вечером.
На улице шел снег. Не тот колючий, противный мартовский снежок, гонимый северным ветром, который утром на открытом пространстве возле «Ашана» закручивал веретеном метели, а невиданный, сказочной красоты снегопад. Тихий, мягкий и такой густой, что в двух шагах не различишь ничего, кроме далеких тусклых огней, внезапной вспышкой разрезающих пушистую белую пелену и тут же исчезающих в ней.
Навевающий поэтические строки и совершенно чуждый прозаическому городскому бытию, волшебный снегопад парализовал все движение. Проспект Мира встал намертво.
В автобусе, набитом под завязку замерзшим людом, не желавшим рисковать, дожидаясь следующего, который мог приползти через час, было неароматно-душно от таявшего на шерстяных пальто и шубах снега. Ничуть не лучше, чем в летнюю жару, когда воздух в транспорте пропитан запахом пота непромытых мужиков, упорно игнорирующих везде и всюду рекламируемые дезодоранты.
Устав брезгливо морщиться, Люся вышла на две остановки раньше и пошла пешком: все быстрее, чем на этой проклятой колымаге. Между прочим, уже опасно накренившейся набок.
Автобус она, конечно, не перегнала, а в подъезд вошла большим сугробом, и, как ни трясла возле лифта сырую от снега шубу, та, хоть плачь, никак не хотела возвращаться в прежнее состояние роскошной норки темно-медового цвета. Драная кошка, и все тут! Из попытки разгладить ладонью клокастый, неузнаваемо тяжелый мокрый мех ни черта не вышло, и от отчаяния Люся даже всхлипнула: ведь такой красивой и дорогой шубы у нее не будет уже никогда! Откуда? Только Лялечка, да и то во времена оны, могла сделать ей такой царский подарок. Причем сделать с легкостью, словно ей это ничего не стоило, тем самым освобождая от необходимости рассыпаться в бесконечных благодарностях.
– На, мать, забери ее, ради бога! Меня эта шуба страшно увеличивает. Представляешь, позарилась на пятидесятипроцентную скидку и купила на размер больше… Ладно, мать, забей! Подумаешь, три тысячи евро. Все равно я на ней уже поставила крест, когда эти сволочи в «Аэрофлоте» потеряли мой багаж.
На самом деле и это великолепное, невесомое норковое манто, небрежным жестом брошенное прямо в руки, и все остальное Ляля всегда дарила от души, просто манера у нее была такая – жутко независимая.
И вот везучая шубка, не потерявшаяся и не украденная, по счастливой случайности оставленная прошлой весной в Ростокине и избежавшая пламени пожара, теперь из-за волшебного снегопада превратилась бог знает во что. Так обидно! Главное, куда было спешить? В этот вонючий мусоропроводный дом, населенный нынче не пойми кем? Ни одной более или менее приличной или хотя бы знакомой физиономии здесь уже не встретишь, зато грязи и всякой гадости – полным-полно!
«Ничего у меня теперь уже не будет! Ни другой шубы, ни другого дома, ни другой квартиры!» – продолжала по-мазохистки изводить себя Люся, открывая дверь в мрачную тишину, в четыре стены, в одиночество. Обычно утешающий аргумент – у многих и такого жилья нет, тысячи людей сидят друг у друга на голове – сегодня не утешил: эти тысячи не привыкли, как она, к простору и комфорту, им легче смириться со своим убогим существованием.
Изматывающее чувство жалости к себе, никому, в сущности, после смерти матери не нужной, перешло в неудержимые слезы на высокой Нюшиной кровати, уже давно не пугавшей своим покойницким прошлым. Чего теперь бояться? Ничего страшнее пережитого прошлой осенью быть уже не может. Когда-то она осуждала Нюшу, способную безмятежно похрапывать на постели самоубийцы. Как можно? Какая душевная тупость! А когда поумнела, поняла: если человек пережил войну, голод, потерю близких и, совершенно обездоленный, остался один как перст в огромном и жестоком мире, то о какой его душевной тонкости или тупости можно рассуждать? Тут бы как-нибудь выжить, приспособиться, отложить хоть копеечку на черный день. К слову сказать, грядущий черный день страшил не одну только Нюшу, а целое поколение простых людей, перенесших за свой век столько страданий, что поверить в безоблачное завтра они уже не могли. Да и следующее поколение, кроме тех, кто нахапал на три жизни вперед, тоже не особенно рассчитывает на безоблачность.
Кровать, кстати, оказалась очень даже удобной. Нюша вообще обустраивала свой быт не по принципу красоты, а исходя исключительно из соображений удобства, и в этом была своя сермяжная правда. Вот где бы, например, сейчас сушилась мокрая насквозь шуба, если бы не веревка, протянутая на кухне под потолком? Сколько раз Люся покушалась на эту неэстетичную веревку, а веревочка-то, видишь, как пригодилась.
Время от времени она покушалась то на одно, то на другое, но горячее стремление к переменам, к эстетике быта неизменно наталкивалось на плутоватый материнский вопрос: «А деньги-то у тебе на ентот шкап (диван, стол, неважно) есть или как?» Денег, естественно, не было.
Свободных денег – так, чтобы поменять мебель, сантехнику, сделать основательный ремонт, – не было никогда. Денежки чуть-чуть водились при Марке, но, увы, недолго музыка играла, а после, лет на двадцать – опять нищета. Безбедная пора началась в Счастливом, но сопровождалось это благоденствие таким количеством забот и хлопот, что до ростокинской квартиры все никак не доходили руки. Даже как следует прибраться, и то было некогда. Так и оставался Нюшин дом брошенным, запущенным, оплетенным по углам серой паутиной с дохлыми мухами – до того дня, когда наутро после ее смерти Люся вернулась в Ростокино.