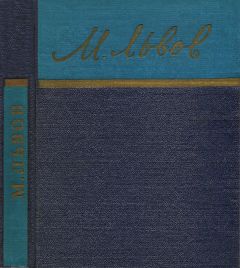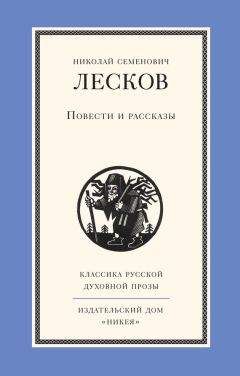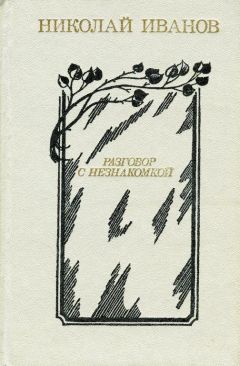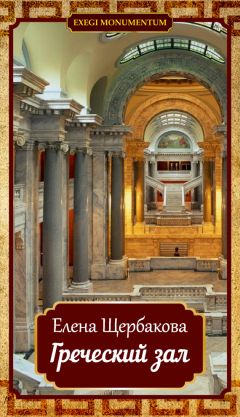Анатолий Мерзлов - России ивовая ржавь (сборник)
– Кем вы себя чувствуете? Что-нибудь видите на потолке?…
«Почему он не спросит, а хочу ли я смотреть в него?»
И его снова возвращали в камеру. Мишка понимал, что мог бы подыграть, и тогда бы смог кидать вволю свое тело по самой скрипучей кровати всю ночь, не страшась возмездия.
Уплывающим сознанием он понимал: с этим послаблением все канет в необратимую бесконечность и впереди одно беспамятство. Жалкие обрывки сознания все еще держали на плаву. Он не спал, но садился со всеми за стол, силой вталкивал в себя что-то мерзкое и липкое. В погибающем теле, наверное, одна живая разумом извилина мозга и позволяла ему оставаться в кислой атмосфере прежней камеры, она одна позволяла надеяться на спасительный исход материального – морально он отомщен.
…Бережно поправляя в коробочке подстилку рыжему взлохмаченному, смахивающему на дикобраза, хомячку, он с нежностью приговаривал:
– Не бойся, хомочка, ты будешь не один, мы взлетим вдвоем, и ничего, что страшно – летают же другие. Вон, и самолет наш уже подруливает. Смотри, открой же глазки – он большой и надежный, – успокаивал он больше себя перед первым в своей жизни полетом, глядя, как его закадычный друг, маленький хомячок, совсем не беспокоится по этому поводу, а лишь выражает некоторое неудовольствие по поводу остуженного ложа, нервно ткнув знакомую руку маслинкой носа.
Мишка летел с мамой в Америку на встречу с отцом, который по каким-то обстоятельствам не мог вернуться домой уже много времени. Его грузовой пароход приходил куда угодно – всегда очень далеко от дома. Наверное, ближе не получалось. Мама часто повторяла:
– Папа с таким трудом попал «под флажок», едва начали выбираться из нищеты – надо терпеть.
«Но надо, так надо. Эх, если бы не самолетом…»
Он боялся себе представить ту кошмарную высоту, на которой они летают. Но мама не хотела этого понимать, и он успокоился после ее согласия взять с собой хомячка. Перед его хладнокровием Мишка пасовал, ему становилось стыдно перед хомячком и он, стиснув зубы, заискивающе общался с ним, готовый к подвигу.
…«Как давно это было. А как сладко на сердце – никто больше не обидит беззащитную животину».
Хомячка тогда в самолет не пустили: его, верещащего, силой вырвал из его рук милиционер. Хомячок был добряк, но в отместку по дружбе тяпнул его.
Милиционер тряхнул рукой, и рыжий пушистый комочек зашелся на полу в предсмертной судороге.
– Вот, видишь, он захотел спать, – сморозил милиционер, поднял брезгливым щипком дрожащее тельце его друга и опустил в мусорный бак.
От того путешествия в детском сознании остался душераздирающий визг и искривленное в злой усмешке лицо.
– Ты покажи мальца доктору, – помнилась еще удивленная мимика отца. И он не понял его трагедии.
Машины безостановочным потоком шуршали шинами. Деревня в дальнем Подмосковье, куда он перебрался на ПМЖ с больной дочерью, делилась автострадой на две части. В противоположной от них стороне, через автостраду, находился единственный магазин. Детский врожденный паралич испугал мать, она отдалилась вначале в работу, а потом и вовсе пропала бесследно. Дошли слухи: с молодым протеже в Чехии открыли дело, да потерпели фиаско. От продажи квартиры осталось немного денег, на них он исполнил желание дочери: купил ей милого, юркого кокера с именем Джулия. Один раз в три дня он позволял себе вояж на ту сторону дороги. Пытаясь угадать достаточную прогалину в несущемся потоке машин, держа одной рукой сетку с хлебом и прочей снедью, другой урезонивал прыткую собачку. При вечном дефиците времени хотелось одновременно решить две повседневные задачи.
Модно наблищенный тяжеловоз фыркнул тормозами – водитель галантно показал перед собой, заслонив огромной массой сигналящий нервный поток сзади. Мишка подходил к противоположной стороне, когда на обочине его ослепил несущийся черной пантерой авто, в глазах отпечатались «555» его номера…
Пришел в себя Мишка в гипсе. Первые мысли его были о дочери, а первые слова:
– Что с Жулькой?
Убитую собаку закопали сердобольные соседи, а дочь увезли на попечение социальные работники.
В день выписки, остановившегося у провисшей створки ворот своего домика, Мишку приперли зловещие «555» – он вздрогнул, так неслышно тот подкатил.
– Ну, че, еще под колеса захотел? Пиши следователю отказную, если хочешь выздороветь. Глазками надо чаще по сторонам моргать. Твое счастье, что мастер смог опоганенное крыло классно сработать, не скажешь, где вмятина была.
От такого откровенного цинизма Мишку бросило в жар, резко засаднило в поломанных ребрах, но он сдержался, пошатнувшись на склеенном суставе, с трудом «вырулил» в просвет ворот и безмолвно поковылял к дому.
– Ты че, урод, уши отказали?
Негодование кровью ударило в затылок. Перед глазами Мишки из далекой памяти возник несчастный, дрожащий в предсмертной судороге хомячок. Не помня себя, он метнулся к шкафу, выхватил из клейковины паутины охотничий 12 калибр. Оставляя на матовом воронье мокрые блестки своих уверенных пальцев, забыв о недуге, саданул с разворота, не целясь, в ненавистную фигуру…
Как мало ценится в нынешнем мире совесть – как много в нем необузданного зла.
Несостоявшийся разговор
Насыщенный ароматическим букетом воздух гипермакета мерцал неоном ослепляющей силы. Неизбежность собрала здесь по случаю тех, кто так или иначе готовился продолжить дефиле роскоши. Суетились разборчивые пенсионеры, в призрачной надежде всматриваясь в то, что радовало глаз; небрежно кидали свертки в беспорядочно наполняемые тележки, узнаваемые по рассеянным мимолетным взглядам, предприниматели, занятые далекими отсюда мыслями. Мерчендайзеры в униформе сосредоточенно облагораживали товар на опустошенных полках. Каждый из них не привлекал ощутимого внимания застывшего на часах охранника. И что странно, при постоянном перемещении и огромном скоплении людей не было типичного базарного гула. Тем не менее, сосредоточенная масса все же создавала некий фон. Здесь не принято торговаться, золотое правило гипермаркета – воспринимать предложения «post factum», молча перелопачивая жерновами мыслей скачущие цены.
Вдруг от входа покатилась непонятная пока, но настораживающая тишина – так тягучая океанская волна зреет силой перед выбросом на берег.
Он влетел, опережая семенящую свиту, ограждаемый всевидящей мобильной охраной, задал вопрос, не дождавшись внятного ответа, заговорил вновь, резко, отрывисто, по-военному. Кисло улыбнулась пенсионерка, соображая, радоваться ей нежданной встрече или отчаяться в попытке отчленить в озадаченной суровыми буднями голове главную мысль. С годами не так остра стала память, но его она узнала сразу:
«Это же он – достойный представитель России, ее, Клавдии, последняя надежда. Он так не похож на всех предыдущих говорунов. Именно ему она верила, ждала и заслоняла, как могла, от лавочных дискутеров. Все еще плохо? Значит, просто нет иного выхода! Сделает сильной государственную машину – потом заживем».
От нервного напряжения у Клавдии повело голову, перед глазами замельтешило: «Не брякнуться бы…»
На мгновение мелькнула мысль от внезапно накатившего отчаяния:
«Повиснуть бы на близкой могущественной руке да рассказать всю правду, как на не самую маленькую пенсию в восемь тысяч рублей тяжело существовать.
И что нельзя, но так иногда хочется разговеться сладеньким! Сколько ей осталось этих «шалостей…». Тут же другая мысль: «Соседка Надюша получает и того меньше – до шести не дотягивает, а все так же – от звонка до звонка в строю отстояла».
Он с той же телевизионной отмашкой прошел ну совсем близко – пахнуло мужским парфюмом, мило улыбнулся, даже кивнул. Клавдия ответила улыбкой, хотя он прыгал перед отуманенным сознанием кузнечиком. Боясь испортить собой торжество высокого порядка, Клавдия, придерживаясь рукой за выступы переполненных стеллажей, на негнущихся ногах заторопилась к спасительному выходу. В створе двери резануло откуда-то сверху:
– Можно повременить с надобностями? Отставить… пусть идет, – рыкнул из глубины другой голос.
Спасительный просвет придал сил – Клавдия засуетилась. Когда пахнуло прохладой, а в лицо ударил блик заходящего солнца, она поняла: кошмар продолжается. Больше всего она боялась остаться беспомощной, сознание, к счастью, не покинуло ее. Клавдия глубоко вдохнула знакомый, пахнущий теплым асфальтом и выхлопом автомобилей родной московский воздух. Впереди сквер с рядом спасительных лавочек. Она опустилась с краю, спиной к бесстыжим малолеткам – те, невзирая на нее и прохожих, извившись змеиной свадьбой, лизали друг друга. Расшалившееся сердце постепенно успокаивалось, она задышала ровнее, села удобнее и, чтобы не лицезреть бесстыдство, прикрыла глаза. Сколько раз подобные состояния пугали ее, сколько раз она прощалась с жизнью, перед глазами стремительно проносились прожитые годы. И всякий раз мысли останавливались за чертой, предшествовавшей страшным испытаниям. С каждой очередной тягостью ей становилось все отчетливее понятно: жизнь осталась за той чертой – она пока есть, но на самом деле ее давно не стало. В перестроечном угаре погиб в авиакатастрофе единственный сын – подающий надежды ученый НИИ, едва начавший наводить контакты за рубежом – обещал ей достойную старость.