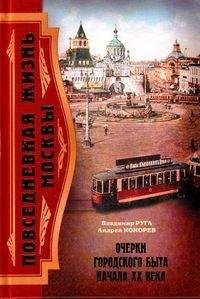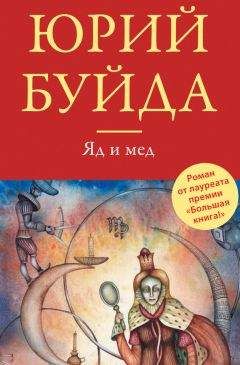Андрей Коржевский - Вербалайзер (сборник)
За ночь переменилась погода, как часто бывает здесь, у Клинско-Дмитровской гряды, – наползла от севера хмарь, попрохладнело. С канала, реки и близких водохранилищ поднялся прозрачный туман, стало сыро и маетно как-то, и солнце в полдень угадывалось на небе только светлым пятном. Приехал из Москвы Гришкин отец, отругал, как водится, за безделье – щебенка из кучи в переулке не растащена по дорожкам, но больше так – для профилактики. Забрав с собой Гришкиных пятилетнюю сестру и бабушку, – какие-то у них были в Москве медицинские надобности, отец отбыл, наконец, – ладно! Пришел Вовка, ведя в поводу велосипед, все у него цепь слетала. Перемазав руки, натянули цепь, отмылись, Гришка взял свой «Минск», за которым он тоже плохо следил, поехали прокатиться. Окрестные места, сами по себе хороши, для катанья годились мало – то со спуска несешься, то в гору тужишь, – недолго проездили. Близко уже к повороту на их с Вовкой улочку из железной калитки неприметного прежде участка вышла с полуоборотом – закрыть щеколду – среднего роста девица. Не подойдя, успели оглядеть – плотненькая, в теле, глаза темные, ноги недлинные, полноватые – но есть! Ноги же! Навстречу идут! Познакомились быстренько, договорились встретиться вечерком – нет-нет, мы не такие, – погуляем, поговорим, так просто… «Правильно, правильно она тебя поняла», как сказала прозорливая бабулька в хорошем фильме.
Ну вот, думал Гришка, идя уже один по своему переулочку, Самое Первое-то грехопадение тоже ведь в саду приключилось, в Эдемском, да. «Адам, – спросила Ева, – ты меня будешь любить?» – «А что, – вопросом ответил Адам, – разве есть варианты?» Здесь ведь так же – яблони, яблони, да вишни кое-где хилые… Когда новознакомая Таня ушла, Вовка и Гришка, поспорив малость, проблему выбора решили просто, как им казалось, – подбросили монетку. Выпало – Гришке. Ни Вовка, ни Гришка, ни Таня не знали тогда, конечно, – откуда бы им знать, что Грех Первый вовсе не соитие, ибо сказано было заранее «плодитесь, мол, и размножайтесь», но – непослушание, – не хрен было яблоки без разрешения рвать, пытаться Богу уподобиться, знать чего не положено – ишь, понимашь… Не знали они и того (а уж это знание, точно, дается только личным опытом, на праотцах не выедешь), что чего хочет женщина – того хочет Бог. Вот если не хочет… А они – монетку…
С прогулки, еще не стемнело, Гришка возвращался в смущении, в грусти и в злости – на весь мир злости, на всех, на себя, на себя. На себя. Он оказался робок. Снова. Гуляя с девчонкой вдоль опушек, говорил, говорил, говорил, – а-а, да ты умник, ну ладно… Чего ждал-то – что она сама целоваться полезет? Не дождался, ясно. Нет бы… Чего там – сам дурак, у-у, мудило грешное… Хе-хе – безгрешное… Подходя к своей калитке, сквозь редкий штакетник соседского участка и подсыхающие уже смородиновые листья Гришка увидел знакомый объемный зад соседки Лены. По-другому назвать эту часть соседкиного тела было просто нельзя – зад, именно, – в коричневых выцветших шортах, он помещался среди аскетического антуража подмосковного огорода, как некий памятник тщете ковырянья в этой скудной земле. К нему, к заду склонившейся над грядкой соседки и обратился Гришка с отчаянья:
– Лена, добрый вечер.
– Ой, Гриша, вы меня напугали! Как можно! – Лена была из культурной, иных не бывает, впрочем, еврейской семьи. – Что вы…
– А что – я же поздоровался… – Гришкина морда распунцовелась до неприличия. – Я что – я там себе комнату, на втором, отделал, – зайдете посмотреть, может?
– Вы, Гриша, думаете, мне это будет интересно? – соседка глядела на парня так, что он не понимал – не то как на идиота, не то пытаясь что-то разглядеть в области его пупка.
– Ну-у… я думал, может, захотите взглянуть…
– Хорошо. Сегодня поздно уже идти…
– Так ведь там свет есть!
– И окно. Лучше при дневном освещении… Давайте, Гриша, завтра все-таки, после обеда где-нибудь, хорошо?
Гришка, наконец, осмелился взглянуть в большие на очень некрасивом лице глаза и тут же понял, каким бывает взгляд женщины, способной не послушаться кого угодно, если ей этого хочется.
Вообще-то, была, кроме тридцати-так-летней Лены, и еще одна соседка, на другом смежном участке, – Аня, старшая сестра тоже Гришкиного приятеля Васьки, почти профессионального волейболиста, бывавшего поэтому на даче редко. Ане было двадцать четыре, на даче с ней жил трехлетний сынишка, отец же ее, отставной полковник, бывал наездами – работал где-то. Насчет мужа четкого понимания у Григория не было, – кто его знает. Об Анне Гришка всерьез и думать не смел: свежее белое тело, большегрудое и ляжкастое, сытое и немного рыхлое, плохо поддающееся загару – сама жаловалась, – как на нее посягнешь, на такую красивую, к чему он ей, – а жаль, не то слово как жаль. Но не всерьез, а так, развлекаясь перед сном, смел, очень даже смел, – вот так ее, вот так и эдак – тоже… Уф-ф-ф…
Григорий уснул, и снилось ему, что дачный дом сгнил, что прошло много лет, что начинают ремонт со сносом, а под домом-то, оказывается, подвал бетонный, а и его надо ломать, и он, Гришка, вспоминает вдруг, что тогда еще, когда он школу заканчивал, зачем-то убил приезжавшую к ним из Ленинграда десятиюродную сестру свою, всегда ему нравившуюся, – зачем, непонятно, а она, вроде как, беременная была, убил и в углу подвала прикопал… И забыл до поры, как мог забыть… А ведь найдут сейчас – копают уже, найдут. И его ведь обвинят и казнят, а он не убивал, она сама, наверное, как-то… Ага, и сама закопалась… Долго ли, коротко ли мучился во сне Григорий, – мало ему не показалось.
Конечноиюльская ночь ветерком от Москвы раздернула облачные занавески на окне в полный звездами галактический двор, как будто кто-то оттуда вознамерился подглядывать за съемками очередного эпизода из вечного сериала о непослушании. Луна светила почище студийных софитов, и лишь иногда коротко закрывала ее просветная тучка, уменьшая немного контрастность изображения. Как им не надоест подглядывать, – одно ж и то же… Тихо было, только от близкой молочной фермы, где светились два окошка, слышались хохот и визги подгулявших доярок.
Когда Гришка уже похрапывал, забывшись, наконец, прочно, Вовка-дружок, пошуршав недолго кедами по мелким камушкам дачной дороги, подошел к тому забору, из калитки которого вышла давеча Таня. Единственное, чего опасался Володя, была возможная во дворе собака. Сорвав пару крупных каменных антоновок с оперевшейся на штакетник могучей ветки, Вовка пульнул их влево и вправо вдоль участка, – хуюшки, нет там никакого барбоса! Перемахнуть забор – не штука, так, вдоль грядок – огурцы б не потоптать, ежевика – ох, ёшкин кот, и собаки не надо, – вот и дом. К мансардной открытой раме, прячущей комнатное нутро за ситцевой шторкой, приставлена лестница – милости просим! Настольная под выцветшим тканевым абажуром лампа показала Вовке, когда он влез вовнутрь, лежащую на кровати с высокой спинкой Таню. Она была одета – футболочка, брючки спортивные, белые носки. В левой руке у девушки была нетолстая книжка, в правой – вполне поспевший белый налив, откушенный уже разок.
– Здрасьте, здрасьте… Проходи, чего замерз? – сказала Таня, хлопнув книжонку на мягкую без лифчика грудь.
– Так это… Вот. Привет, – Вовка сроду не был красноречив.
– Угу, понятно. Я думала, ты раньше придешь, – чего ж, до утра тебя ждать?
– Ну почему до утра? До утра – еще долго…
– Долго – недолго, но время есть. Я уезжаю послезавтра.
– А-а… Вернешься скоро?
– Не знаю пока, может, вернусь, погляжу – стоит ли…
– Ну ты даешь…
– Ну ты же просишь. Или нет?
Вовка сделал три шага, присел на краешек постели, наклонился неловко через плечо – целовать. Таня подняла руки, обняла его за шею, а Вовка правой потной от волнения ладошкой полез к ней под футболку и наткнулся сразу на что-то жесткое, картонное, в углах.
– Что это у тебя там? – выдохнув, спросил он.
– Да пачка сигаретная, сползла…
– Убери, а… Мешает…
– Ну слава богу… Сообразил, наконец, – не то что этот твой, трепун…
– Ох, убьет он меня, Гришка-то…
– Ничего, не убьет небось. Или – боишься?
– Нет уж… Чего тут бояться…
– Хорош трепаться… Лампу нажми. Иди сюда…
Ночной ветер стих и ни разу не отогнул легкую ткань в оконном проеме, – подглядывающим свысока неинтересны подробности.
С утра и до середины дня Гришка таскал щебень, гремел о камни совковой лопатой, стараясь не думать и думая все же о том, как Лена пойдет смотреть его комнату и как он расстегнет ее шорты. Или нет – лучше скажет снимать, а она и снимет, а там – ничего, в смысле – трусов нету… И так далее. Куда – далее? Все туда же… Так и сказать – снимай? Может, лучше рубашку сначала снять, вечно она в мужских рубашках… Потом насисьник расстегнуть… Или лучше сначала поцеловать, руки за спину и – отцеплять крючочки… Или…
– Гришка, ты чего там сам с собой бубнишь? – Вовкин голос был до того довольный, что Григорий даже обернулся не сразу.