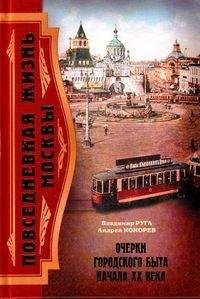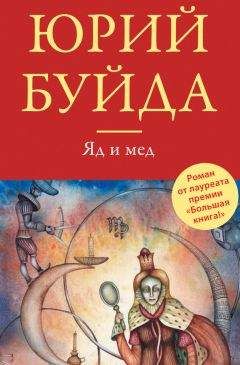Андрей Коржевский - Вербалайзер (сборник)
А денек поднялся серенький, задуло с северо-запада напоминание о бренности любого отдыха, покапало даже немного, – так плачут на свадьбе незамужние подружки невесты, не о ней – о себе. Ловили помалу, без азарта.
Прошли в небольшую протоку, скобкой соединявшую два больших ильменя́, миновали рыбацкую берлогу – два намертво сваренных старых кораблика, проржавевших до дыр по клепке. Кто-то там копошился, посматривал в заросшие зеленью стеклышки, пованивало перловкой и вареной рыбой. Повыбили осетринку – нищета… Мимо куласа проплыла, покачиваясь мячиком, отрубленная сомовья голова. Понемногу начал брать окушок.
– Ужасы царизма, а? – кивнул на кораблики Григорий Андреич.
– Эт точно, – откликнулся недослышавший из-за ветра Толик, – хуже социализма. Тогда хоть у всех… приблизительно… Эти тоже… Хаперы все… Удержу нет.
– Хакеры? – изумился Петька. – Здесь?
– Хаперы, хаперы, ну… Только б хапнуть, а что потом?
– Apres nous le deluge, – сказал Григорий, так, чтоб сказать хоть что-нибудь, – а что тут скажешь?
– Точно – делю ж… – Толик был под стать погоде – мрачноват. – Тому отдели, этому… То ли раньше! Вот, помню, в восемьдесят девятом – Серега береговой тогда в заливчике белугу взял, – семьсот кило! Икры одной… Дом построил и «девятку» купил! А щас…
– Как же взял-то?
– А как – умотал сетями и трактором – на берег, – делов… Нету теперь…
За вечерней трапезой Григорий Андреевич сразу углядел, как внимательно смотрит вслед Азалии владимирский, которому она вчера улыбалась. Тот перехватил блеск очков и подошел знакомиться. Г. А. поднял рюмку, пропел гундосо:
– Помолимся, помолимся Творцу! Мы к рюмочке приложимся, потом и к огурцу! Пасха скоро. Добрый вечер.
– Здравствуйте. Михаил. Очень приятно. Вот, вывезли приятели – ознакомиться.
– И как?
– Вполне, хотя я сухопутный, мне эта рыба…
– Ну что же, – во здравие!
Григорий Андреевич омокнул губу в рюмку, осмотрел Михаила внимательно. Мужичок был вполне хайлайфистый, но не заплывший пока быстро нагуленным жиром провинциального нувориша. Глаза хитрые, – привык стелить мягко, а – волчара, сразу видно. Молодец. Такой вот жерех на отмели после запруды лупит малька безжалостно, засандалив сначала хвостом по мелкой воде – оглушить. Пока не нарвется на верткий «Катсмастер» – чистую уклеечку на струе… Но не пугай – опасливый.
Михаил снова вывернулся поглядеть, как странно округлые при общей худощавости бедра Азалии прошествовали мимо его плеча к стойке. Потом обернулся к Григорию и сразу понял – не скроешь.
– Можно. Можно, – сказал Г. А., – но дорого.
– Не дороже денег, – спокойно ответил Михаил.
– Бесспорно. А зачем? Если не секрет.
– Это – будущее.
– О-о-о… Серьезно. Яйца в разные корзинки… Ну, что же, Миша, не худо бы вина выпить белого… Ты как?
– Я лучше коньячку.
– Мудро. Разогревает.
Миша оказался немаленьким во Владимире человеком, и дальше они с Григорием разговаривали о разном – не о рыбалке и не о бабах, обоим это казалось некорректным.
Великая Суббота на рыбалке – суббота обычная, здесь неделя не календарная. Омрачил ее для Григория Андреевича только тридцатикилограммовый сом, случайно пойманный уральской компанией, прирезанный вроде в лодке, но окончательно умученный уже на причале, где с ним не снялся только ленивый. Сома поднимали и так, и эдак, а чаще всего – за усы, так что распяливалась его пасть, футбольный мячик в которую вошел бы без труда. И не то чтобы пожалел его Григорий, но как-то это было… чересчур. Он фотографироваться не стал. Щуки и килограммовые окуни-лапти такого сочувствия не вызывали. С ними он снимался охотно.
У крылечка к нему подошел Михаил. Лицо его за три дня помягчело, молодые морщинки у глаз пересобрались по-доброму, взгляд утратил собранную жесткость.
– Слушай, Григорий Андреич, Пасха же сегодня.
– Отметим – люблю.
– Нет, я к чему? Тут, оказывается, в Камызяке новый храм большой, – может, подскочим на службу, а?
– А кто поедет?
– Ты, я, Юрка мой и Азалия. Мы же завтра уедем. Я уже машину заказал.
– Благословиться?
– Все тебе съязвить. Ну да, хочется ей…
– Это не грех. Если хочется…
– Ладно тебе…
– Да я одобряю, не журись. Я же вижу – зацепила, на улицу не бросишь, чего ты? Нормально… Во сколько поедем?
– В половине одиннадцатого такси придет. Давай, до вечера.
К ночи северный ветер выстудил южную землю до тонкого ледка на весенних лужах, и, казалось, будет нужно теперь что-то такое, особенное, драматическое, чтобы распогодилось, наконец, как положено, чтобы сгинула сизая мертвечина, смытая в реку мягким весенним дождем, чтобы ожили камыши, чтобы заорала, перекликаясь, бранясь и любя, бессчетная животная тварь, чтобы пошла с верхов большая вода и напитала, насытила бы влагой пересохшие губы речных берегов. Пасха!
В храме была толпа – грубые коричневые мужские лица, белые под темными платками женские и девчоночьи, и все это мешалось и перетекало, как пасхальное тесто с изюмом, а может, так оно, по уму-то, и есть? Азалия, накинувшая на темные волосы белый шелк платка, держала левой рукой свечу в бумажной юбочке, правой часто крестилась, кланялась иконам, пряча горящие надеждой на чудо глаза. Михаил стоял за ее левым плечом, и в руке у него была металлическая свечная таблетка, явно ему надоевшая, – но он терпел.
Пушечно бумкнул новый колокол, крестный ход, и Азалия в нем, пошли по плиточной дорожке, Михаил с приятелем и Григорий Андреевич вышли за ограду, закурили.
– Ну, в общем, я завтра уеду, а она через неделю приедет ко мне, я ее там устрою, – сказал Михаил.
– Ну и молодец, – безразлично ответил Г. А.; это было уже и лишнее – зачем ему это знать?
Утром, придя на завтрак, он увидел на столе аккуратно расставленные тарелочки с парой крашеных яиц и крошечным куличиком, со стакан размером, в каждой. Из куличика торчала короткая незажженная свеча. Григорий Андреевич богохульно засмеялся и показал на все это хозяйство Петьке, – тот понял и засмеялся тоже. В конце концов, им было еще пару дней ловить, в отличие от тех, кто отловился и кому теперь – только ждать другой ловли.
У своей двери на перилах крылечка, вернувшись переодеться для выезда, Г. А. заметил ту самую таблетку с фитильком, которую держал на пасхальной службе Михаил. По дорожке от ворот к столовой шла Азалия. Григорий Андреевич окликнул ее:
– Азалия, детка, потрудись, подойди ко мне!
– Иду! – ни тебе грусти в голосе, ни тебе стыда, – тяни, тяни, рыбачка, вываживай!
– Ну, я знаю, так что не переживай. Слушай…
– Да, поеду, все-таки недалеко от Москвы, а там – может…
– Может, может, все может. Только голову не теряй. Слушай, вот что – ты поедешь, передай Мише вот эту… свечечку. Примета такая: если кто твою пасхальную свечу возьмет – нехорошо это. Надо сохранить.
– Ладно, передам.
– Ну, пока, до ужина.
Это был первый случай в его немаленькой уже жизни, когда на вопрос «А ты что, со свечкой стоял?» он смог бы ответить утвердительно. Ловилось в тот день превосходно.
Огрех в трех главах
Глава первая. Впадение во грех
Всякий, рожденный от Бога, не делает греха.
1 Ин. 3:9
Кто делает грех, тот от диавола.
1 Ин. 3:8
Если говорим, что не имеем греха, – обманываем самих себя.
1 Ин. 1:8
Молотком по пальцу – очень больно. Сами небось знаете. Или не молотком, но с размаху – тоже очень. Гришка с утра влепил себе по большому пальцу правой руки могучими клещами, сорвавшимися со шляпки толстого ржавого гвоздя, – как ухитрился… Он, Григорий, пытался вытащить гвоздяру из нужной ему старой доски, обустраивая себе комнатенку на втором этаже дачного родительского домика, – было там темновато и неуютно. Днем – еще ладно, было на что отвлечься. Но две ночи перед сном приходилось баюкать дергающий болью thumb, – английский в школе учили подробно. Этот самый «сам» – для первой согласной язык между зубов, последняя не произносится – пытался жить какой-то своей набухшей и напряженной жизнью, не согласуясь ни с ритмическими толчками крови, ни с позицией – вверх-вниз, налево-направо. Заснуть было трудно и трудно тем паче, что как раз правая-то рука и нужна была Григорию для непременной уже несколько лет предсонной процедуры. Другой Сам, Самый Сам, со своей, как было известно Гришке из анекдота, головой, которая сама и думает, левой руке подчинялся неохотно, сбоил, норовил уклониться, а еще и боль в правой мешала разворачиваться перед закрытыми глазами стремительным сладким картинкам.
Лет десяти, сидя в ванне и не имея склонности к водоплавающим игрушкам, а скучно же, начал Гриша теребить подававший невнятные сигналы membrum virile. Изумясь результату, вдохновленный мальчик решил было, что открыл нечто новое в человечьей природе и что надо поведать об этом urbi et orbi, но сообразил таки – вряд ли, не он первый мается бездельем в теплой воде. А чуть погодя попалась ему в руки затрепанная книжка Горького «Дело Артамоновых», нудятина – да ну, но, прежде чем бросить, он успел прочитать на давно пожелтевших страницах про какого-то негодяйского пацана, занимавшегося тем же, – значит, знают… Взрослые, явно на всякий случай назидая, рассказывали время от времени разное – про то, как у безобразников растут волосы на ладонях, про смертельно усыхающий спинной мозг. Гриша послушно пугался, но уж больно приятным было опасное безобразие – не бросал. Пятнадцатилетним Гришка прочитал у Юлиана Семенова, как Гитлер бранит Гесса, заснятого людьми Гиммлера в сортире: «Негодяй! Вы грешите ононом!», а из разных других книжонок уже знал, что грешника, всуе, а не всунув, изливавшего семя на землю, звали Онан. Почему нет ему памятника, вот писающему мальчику – мильон, потому что все мальчики писают где ни попадя, а это самое – не все, что ли? Кроме многих очевидных для Григория от этого занятия плюсов – удовольствие дармовое, а также отсутствие поллюций и прыщей на лице, был и один существенный минус – к нынешним своим шестнадцати он был девственником. Возможности изменить статус были, были, конечно, и немало, – стремления не хватало. А так бы он их всех, – ну почти всех, на всех-то кого хватит?