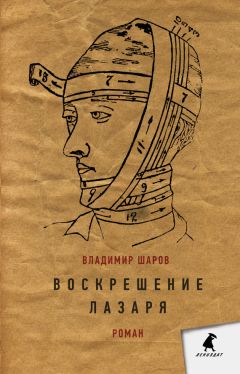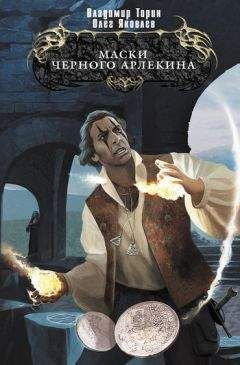Олег Постнов - Поцелуй Арлекина
Я прикинулся удивленным.
– Только это было не здесь – там, в том дворе, – прибавил он, как бы смутившись.
Мы как раз вошли в этот двор сквозь ворота, когда-то прочные, а теперь с большой скважиной вместо решетки одной из створок и второй половиной, снятой с петель.
– Вот тут жила Маша, – сказал мой приятель, грустно кивая на ближний подъезд.
– А! – подхватил я. – Маша! Это звучит лучше: совсем другой тон. Ну? И что же с ней?
– Она жила тут с отцом, мать их оставила. Отец был еврей…
– Ого! – воскликнул я как мог живо. – Прекрасная жидовка! Что ж ты раньше молчал? Морочил мне голову перерезанным горлом…
– Не смейся, однако, – заметил он. – Она точно была хороша.
Я уверил его, что не смеюсь: мне очень хотелось знать его историю. Он продолжал:
– Отец в молодости был ученый, химик или математик. Но после вдруг опустился, запил по-русски… Дело дошло и до карт… У него между тем собралась отличная библиотека. Я в то время оканчивал литературный факультет, писал диплом и к ним ходил за книгами. Это давало мне повод чаще видеть Машу. Как водится, у меня был соперник – некто Григорий Иванович N. Он был старше меня и приходился Левину (так звали еврея) другом. Он тоже участвовал в игре и в той шайке, что тут по ночам сражалась. Играли они в «фараон». В этой игре проигрыш легко может быть большим. И вот узнаю как-то, что Левин в одну ночь проигрался страшно, в пух: спустил все, весь в долгах, продает книги и чуть ли не квартиру. Я бегом к ним. Денег у меня, конечно, не было, но я взял последнее, сам не знаю зачем. Прихожу – в доме развал, все в чаду, но Левины дома, и Григорий Иваныч тут же: это он-то и обставил, как потом выяснилось, старика. Маша сидит в гостиной, в кресле, с заплаканными глазами. А Левин, прямо с порога, ко мне: «Зачем, мол, пожаловал, милостивый государь?» – это он так всегда мне говорил в шутку. Я возьми да брякни: «За Лермонтовым!» – у него был роскошный шеститомник, – и сую ему деньги. «За Лермонтовым? Зачем он тебе?» Я вижу, все на меня глядят, смешался страшно, а бес меня несет: «Мне, – говорю, – Илья Исаакович, нужна для работы новелла его: „Штос”. Изволите знать?» – и сам себе ужасаюсь. Левин скалится, прикинулся глухим: «Что-с?» – говорит и ставит ладонь к уху. И морщит лоб притворно:
«Что-то, говорит, не припомню. О чем она, а?» И я, как заведенный, отвечаю ему (и эдак, помню, бойко, как у доски): «Об одном картежнике-старичке. Он выставлял дочь против золота. И выигрывал. Совсем было героя разорил…» – «А дальше?» – «Дальше… Он не дописал. Кажется, там все оказались фантомы, мертвецы… Невеста тоже мертвая…» – «Ах, та-а-ак! – протянул Левин и дьявольски вдруг усмехнулся. – Ну, у меня-то товар свежей. Тут нужно кое-кого расспросить. В интересах науки. Может быть, они знают, чем там дело кончилось?..» И глядит в сторону. И вдруг вижу, Маша от его слов вся бледная, в слезах, вскакивает и выбегает вон из комнаты. Левин за ней. А мы с Григорий Иванычем уже на ногах, друг на друга глядим в упор и оба красные как раки.
Приятель умолк.
– А потом? – спросил я с любопытством.
Он вздохнул.
– Потом они поженились – то есть Маша и Григорий Иваныч. Дай Бог им здоровья. Я тут ее с коляской видел… Страдал, конечно, как водится, потом надоело.
– А отец?
– Он-то что! Он, надо думать, кругом в барыше: и дочь пристроил, и свое уберег. Старый чорт! Поди, и сейчас еще режется в фараона]
Холст
Грипп, унесший в двенадцатом году прекрасную Элен по волнам, а спустя век скосивший еще пол-России, разразился надо мной под невинной вывеской «острого респираторного заболевания» (ОРЗ). На второй день я слег. Но в первый, предгрозовой, еще только чуя шаги болезни и стойко противясь ей, я после службы отправился не к себе на Мытню, а на другой берег Невы, в Эрмитаж. Там, уже качаясь на валких ногах, причесал кое-как взмокший чуб в гардеробной, постоял перед картой Сибири XVII века, взглянул на «длинного Петра», как его зовут иностранцы (и нашел, что цвет его щек довольно здоров в сравнении с моим), и наконец заблудился где-то в дебрях екатерининских будуаров, в каждом из которых живет ее тень в какой-нибудь непристойной позе.
Не могу уже вспомнить, как я поднялся затем почти к чердаку. Вокруг сновали туристы, дети и, кажется, скульпторы с глупыми лицами и такими руками, будто они только что перед тем рубили ими скотину. Здесь из уст милой, но прыщеватой экскурсоводки я узнал, что нахожусь в преддверье выставки современной немецкой живописи: ее только что привезли в Петербург. Кажется, я что-то платил за право взглянуть на эту мазню. Все было как всегда: кубический красный вечер, синяя зима (тоска по России, о которой они там что-то слыхали), фламандский мужик с вывернутой рукой. Две-три работы были удачны. Вдруг я застыл как вкопанный (мне и впрямь казалось, что меня вот-вот закопают) перед одним холстом. Опишу его.
Он был небольшого размера, в рамах без украшений. Главный тон – бледно-зеленый с просинью. Сюжет банален: двое диких (или первобытных) в борьбе за самку. Она стоит в стороне. Герои показались мне скучны. Зато от нее я не мог отвести глаз. Она была представлена голой, в безвольной позе ожидания. Стоило присмотреться к ней, чтобы понять, что она одной расы с кавалерами. Те были звери. Их низкорослость, их корявость, все было в ней. Зато ее нагота светилась сквозь их полный свежего мяса мир, обещая то, что с трудом можно найти в белизне лучших из подвенечных платьев. Кажется, она слегка улыбалась. Врачи знают, что болезнь, поражая тело, на миг может дать ему вдруг избыток сил. Этот избыток я ощутил в себе, к тому же самым неловким образом. Я согнулся, как бы рассматривая подпись.
Жуткая Венера стала предметом моих бредовых грез. Неделю я метался в жару на подушках, стараясь найти выход из лабиринта дворцов, где двери вели к ней и указатели называли ее имя. Я знал, что я ищу; я искал исток. Веня таскал мне хлеб и микстуру.
Наконец, вновь обретя ясность, я явился, шатаясь, в музей, прошел по странно-сморщенным маршам мимо выцветших вдруг картин, поднялся наверх, вареным языком сообщил часть своих регалий и под предлогом специального интереса стал расспрашивать о холсте. Я был готов к тому, что теперь ничего в нем не увижу: бациллы порой нам открывают глаза… Поздно! Выставку увезли, копий не сделали, и та же прыщавая искусствоведша, на сей раз смазанная крем-пудрой, звала меня коллегой и могла лишь сказать, что автор (не помню имени) еще не стар, подает надежды, прежде работал в рекламном бюро и несколько лет назад деятельно участвовал в борьбе за закон по защите художников от государства.
Алхимия
Привыкнув к моему обществу, Веня исправно навещал меня. Я был этому рад. Мы оба любили шашки, а эта игра требует родства душ. Вечером, сев на койку, мы раскидывали доску, либо сражались в клабур (род преферанса на двоих), либо просто болтали. Как-то я рассказал ему два-три случая из моих легкомысленных похождений. Разумеется, о сердечных тайнах речи не шло. К моему удивлению, однако, Веня воспринял беседу всерьез. Он замолчал и насупился. Видя, что тема ему в тягость, я хотел ее сменить, но было поздно. Какая-то мысль завладела им, он стал рассеян и наконец поднялся, чтобы уйти.
– Любовь, в сущности, проста, – сказал он вдруг, почти уже с порога. – Плохи те, кто ищет в ней что-нибудь, кроме нее.
Я не любитель сентенций. Все же в устах Вени, всегда растрепанного и живого, эта мысль показалась мне странной. Возможно, что меня смутил сам тон. Из чувства противоречия (а также желая задержать его) я вспомнил Данте и то место из «Новой жизни», где донны смеются над поэтом за его страх перед Беатриче. «Он, верно, хочет от нее не того, что другие мужчины от женщин, – говорят они, – раз не может при ней ни говорить, ни стоять» (что-то в этом роде). Веня кивнул. Сказал, что знает, о чем речь, и что ему жаль Беатриче. Я удивился. Он сказал, что сам был в таком положении.
– Однако на Данта ты не похож, – заметил я, смеясь.
– Я был не в роли Данта, – сказал он серьезно.
Получилась двусмысленность. Любопытство мое было задето. Я вскочил, усадил его на стул и сказал, что не пущу, пока все не узнаю. Он хмурился, глядя в окно. Ущербная луна светила на подоконник; уже совсем смерклось. Он стал говорить – отрывисто, почти зло. Всегдашняя его веселость исчезла. Под конец я сам был не рад, что уломал его. Ряд цепких деталей смутил меня. Вот его история в том виде, как я ее запомнил.
Они познакомились на вечеринке. Ее звали Инна – имя, которое ему всегда нравилось. Она была старше его. В детстве он был влюблен в свою двоюродную сестру, которую тоже звали Инной. Та умерла в двенадцать лет. Вечеринка затянулась. Была полночь. Он вызвался проводить ее, поймал на углу такси. Ехать было далеко, в Веселый Поселок. Все мосты были подняты. Такси долго ползло вдоль набережной, ища переезд – и все утыкалось фарами в стену пролета с вставшей вверх мостовой и обломком рельсов. Кордон милиции стоял цепью. Наконец переехали – и попали в лабиринт новостроек. В такси было жарко. Инна сняла жакет и повесила на крюк у дверцы. Это было как обещание – так показалось Вене. У подъезда она сама отпустила такси. Они поднялись к ней, сразу разделись и легли. Зажгли лишь свечу на тумбочке. В свете этой свечи он увидел вдруг, как у ней закатились глаза. И странное дело: ее щеки и губы пылали, но чем дальше, тем бледней становилась она, ее крик перешел в хрип, а тело словно сползло в дрему, онемев, как от гипноза. Он вскоре устал и хотел прекратить. Она просила, чтобы он продолжал. Голова его плыла, он не замечал времени. Наконец он вскрикнул сам («Это было больно», – прибавил он простодушно) и повалился на бок. За окном был рассвет. Инна лежала недвижно, и ему стало страшно: его сестра привиделась ему. Он тронул ее плечо – но она тотчас села и провела пальцами по огню. Свеча натекла, пламя стояло клином. «Зачем ты?..» – спросил он, но осекся. Она вовсе не слышала его. Потом он упал в подушки и уснул.