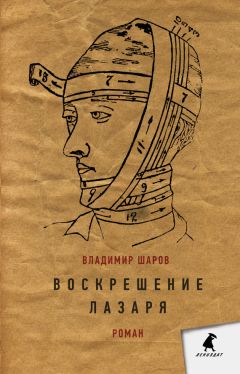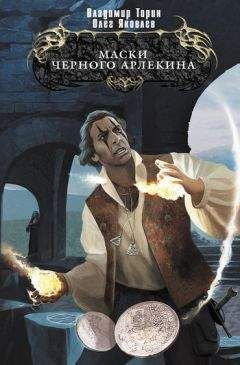Олег Постнов - Поцелуй Арлекина
– Дед, может быть, и пытался. А после революции было не до того…
Он вздохнул и смолк. Мне тоже расхотелось говорить. Я представил этап и весь путь, пройденный Шпеневым. Мой давешний рассказ о густоте впечатлений показался мне теперь глупым.
С минуту мы смотрели молча в окно. Разговор угас. Я взял книгу – он тоже: какой-то аляповатый детектив, который читал накануне, и с ним полез к себе наверх. Я спросил, зачем он ему. Он ответил, пожав плечом, что в его годы уже поздно читать всерьез. Я нашел это справедливым. Вскорости он уснул. Я спустил теневой щит и выключил свет.
Но мне не спалось: я стал жертвой своей фантазии. Поезд шел на север. Вагон мотало на стрелках, дрожащие полосы огня ползли из-под щита по углам купе. Огромность пространства за стеной вдруг стала болезненно ясна мне. Я старался придумать недостающие звенья в истории офицера, давшего пощечину принцу. Пустой труд! Он сам, его враг, таинственная она, их глухая судьба и смутные жизни представились мне в кругу чужой памяти лишь группой аллегорических лиц. Что означали они? Я не мог знать. Я видел лишь части при скрытом целом: удел историка! Смысл являлся, мерцал – и гас. Ревность, страсть, подлог – все казалось пустым фарсом, меж тем как целый род был брошен в Сибирь, и жизнь трех поколений ушла на то, чтобы вырваться из недр страны, слишком большой для любви и для чести. И еще, было ли это подлинным? Возможно, я все сочинил, неправильно понял… Бессонница (как и ночь) любит такие игры. Признаюсь, мои мечты казались мне ясней тогда, чем позже, при свете дня. Наконец я забылся.
В Петербург мы прибывали утром. Сергей Степаныч был хмур и отвечал сухо.
– Так вы теперь назад? – спросил я его все же, не утерпев, с особым значением.
Он взглянул искоса.
– Да… Вот решил на старости лет… К дочке.
Он подхватил чемодан: перрон уже плыл мимо. Мы простились.
В тамбуре я замешкался – и вдруг поймал на себе взгляд Махно. Тот подмигивал мне.
– Эк, сосед-то ваш, – произнес он с усмешкой.
– А что? Он вам знаком?
– Не без того будет.
Вид его стал важен.
– Ах вот как! – сказал я неспешно. – Большой начальник был?
– Ну – большой не большой… Сам под караулом ходил в то время. Да я пацан был, у него на стройке работал.
– На какой стройке?
– Известно, на какой. Вот на этой. Эту дорогу строили, – пояснил он, ткнув для ясности пальцем.
– Эту? Да ей сто лет!
Батька скривился.
– Ишь ты, сто лет! А война? А север? А Печора? Печорлаг – слыхал?
Он смотрел презрительно. Я сказал, что он прав.
– Он у нас инженер был, – прибавил Махно уже мирно. – Сурьезный дядя, хотя и зэк. Так припекал, если что! Ой!
Он зажмурился. Я ждал, не скажет ли он еще чего. Но он лишь курил, пуская искры. Тогда я взял чемодан и пошел к вокзалу. Дорога кончилась. Впереди был Петербург.
О толщине стен
От города я устал под вечер. Было без пяти пять, когда я вошел в канцелярию института, куда был командирован. На меня посмотрели косо: уже думали запирать. Но как бумаги мои были в порядке, то я получил лист на постой в общежитии университета, забрал с вокзала чемодан и с радостью убедился, что ехать было недалеко. Вокруг шумел Невский. Троллейбус вскоре свернул на мост. Мелькнул шпиль «роковой твердыни» – и канул. Зимний остался позади. Я вышел на Мытне.
Петербуржцы, конечно, хорошо знают это место и это здание. Согласно скромному «Путеводителю» (1973), прежде тут был доходный дом. Но если прав слух, то он, точно, приносил доход, хотя и другим способом. Планировка «нумеров» как будто подтверждала эту легенду. Репутации дома не спасло и то, что в разные времена тут были гостиница и больница. Само по себе здание не интересно ничем. Оно тянется вдоль набережной и сворачивает в проулок, образуя неправильный пятигранник, отдаленно похожий на бастион. Главный подъезд давно для удобства заперт, и потому вход с торца. Тут-то, в третьем этаже, как раз на углу, мне и дали келью, специально рассчитанную на гостей. До меня она пустовала. Я нашел две пружинных койки, стол и стул: вся прочая мебель за ненадобностью отсутствовала. Русские вовсе не обставляют комнат, как справедливо заметил По. Моя к тому же из-за кривизны стен походила на нос корабля, и лишь прекрасный вид на Неву примирил меня с нею. Уже был закат, и белый серп луны всплыл над крышами, как всегда, там, где его не ждешь. Я стал распаковывать вещи. Вскоре одна из коек укрылась полученным в кастелянской бельем, довольно чистым, на другой я разложил гардероб, стол завалил по привычке бумагами и уже хотел было лечь спать, когда вдруг, к большой своей досаде, поймал на подушке насекомое из тех, которых в Северную войну звали «шведами». Казнь над ним завершила мой день. Затем я уснул как мертвый, хотя, сознаюсь, и сквозь сон чувствовал, что «шведы» переходят в атаку… Наутро я поспешил к месту моей новой службы. Было восемь утра.
Тот, кто не знаком с Академией, кто не знает ее изнутри и не заставал никогда ее врасплох, вдруг, тот не может судить о ней. Это касается особенно гуманитарных учреждений. Академисты, как большинство людей, обреченных гробу, любят иметь вид бессмертия. Они украшаются на свой лад. Томные собрания чужих сочинений, столбцы сносок, ад маргиналий – вот те ризы, в которые они охотней всего рядят свою спесь. Но не нужно зря корить их. Между собой они никогда не смеются, как авгуры, и жизнь их не совсем так приятна, как может показаться со стороны. Их служебные комнаты грязны (кроме парадных). На столах лежат кипы бумаг вперемешку с копиркой. На стене одинокий Лермонтов с пером в зубах, словно сеттер с тростью, сторожит рифму. И по всем комнатам часто нельзя сыскать ни одной пишущей ручки… Но как быть! В своих кабинетах они редкие гости; главная жизнь их кипит вне казенных стен. От этого они всегда спешат и норовят улизнуть от вас прочь как можно скорее. Чай – одна их отрада. Он в академическом заведении необходим как воздух. Тут, за чашкой, решается все, все дела, обсуждаются планы, даются распоряжения… Все это я знал в провинции и ожидал найти в столице. И не ошибся.
Знакомый стук машинки встретил меня с порога [1] – и смолк, лишь я вошел в кабинет. Я тотчас стал удобным поводом к чаепитью. Все засуетились, бросив дела. Я начал с ранних древников, затем перебрался к медиевистам, а ближе к обеду прочно засел в кружке молодежи за столом сектора русской литературы XIX столетья, чей демократический глава, одетый в американские мокасины, джинсы «Левайс» и куртку-«жердочку» [2] , был всерьез озабочен религиозными мотивами в творчестве Блока. Моя специальность (ересь жидовствующих, XV век) показалась ему подходящей. Как я узнал потом, этот кружок был центром общественной жизни института. Волей-неволей он был составлен из лиц бесправных, мелких, вроде меня: аспирантов, стажеров, лаборанток, других командированных, словом, тех, кто обязан высиживать присутствие до конца и никуда не может деться. По этой причине споры тут часто становились жарки, а темы – интересны.
Тут, за столом, собралось странное общество. Тихая Лена, вносившая уют; другая Лена, отменно пекшая сладкие плюшки; высоколобый эрудит, имя которого я забыл, но который говорил вскользь удивительные вещи; шумный спорщик Веня, еврей и шалун; и, наконец, стажерка из провинции, пожилая девушка в круглых очках, получившая за глаза кличку Безумная Грета. Читатель, может быть, знает, что так в старину звали в Европе огромную пушку. Брейгель-старший аллегорически представил ее в виде юродивой, сеющей хаос. Наша Грета и впрямь походила на нее лицом. К тому же она имела несчастье задавать вдруг вопросы вроде тех, что встречаются в анкетах и викторинах. Вначале от нее бегали, потом привыкли. Эрудит, на потеху публики, как-то сделал ловкую параллель между Брейгелем и тем местом из «Тараса Бульбы», где ляхи палят картечью по казакам «из величайшей пушки». «Страшно глядела она широкою пастью, и тысяча смертей глядело оттуда», – мерно и томно читал он наизусть. Посвященные хохотали. Бедная Грета удивленно вертела головой, не понимая, чему смеются.
Вскоре я стал свой человек за столом и узнал принятый тут порядок прений. У каждого была своя роль. С утра решали дела административные. Обед проводили кто как мог, потом еще с час работали. Спор затевала, как правило, Грета, выпаливая невпопад очередной свой вопрос. Кто-нибудь брался ей ответить: по негласному соглашению отвечали ей всегда серьезно. Если это был Веня, то эрудит своими поправками вгонял его в гнев. Если же, напротив, слово давалось не ему, он спешил отыграться на эрудите. Я редко участвовал в споре, хотя Веня сильно брал мою сторону. Рано или поздно поднимался крик, встревал джинсовый босс (отчего Блока все старались не трогать), и под конец даже обе Лены подавали голоса, а плюшки исчезали с большой быстротой. Одна лишь Грета молчала. Я скоро понял, что это был ее маневр. Происходившее ей явно нравилось, она слушала всех с улыбкой, но ее мнений узнать было нельзя. Мне стало любопытно: я хотел знать, как она станет защищать что-нибудь. Случай представил мне неожиданную возможность.