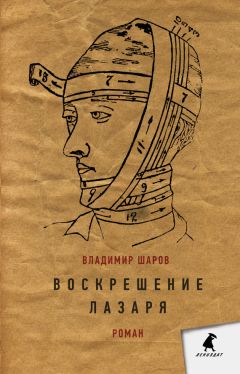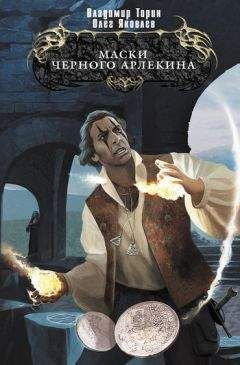Олег Постнов - Поцелуй Арлекина
Утром она сказала, что все было чудно. «Там есть дерево, – сказала она, – такая пальма среди песков. Я раньше никак не могла дойти до нее. Все устают слишком быстро… А теперь успела». – «Где это – там?» Она странно на него взглянула. «Ты ничего не видел?» – «Нет». Больше они об этом не говорили. Условились о новой встрече. Но она не пришла, адреса он не знал, дом впотьмах не запомнил и не слишком жалел об этом. Ему казалось, она ему не нравилась.
Через два дня он понял, что с ним не все ладно. Инна не оставляла его. По ночам он видел ее голой. Это была не любовь. Он лишь вожделел ее, но «свыше всех сил» (по его словам). Он думал, что свихнется. На несколько дней он и впрямь стал маньяк. Он мог бы изнасиловать ее при всех, если бы встретил на улице. Впрочем, он уже не мог ходить. Его скрутило, как в лихорадке. Временами его рвало, порой, напротив, охватывал адский голод. Были часы, когда он кусал подушку и выл. «Мне бы хотелось съесть ее сердце», – сказал он. Еще он катался по полу. Рукоблудие не спасало. Наконец он догадался разрыть, как склеп, семейный альбом и сжег все снимки умершей. К ночи ему стало легче. Во сне он видел ручей и лес. Через месяц он заметил ее жакет в метро.
– Я ее не окликнул, – сказал он.
Я сочувственно ждал, что дальше. Он пошарил в карманах – он всегда носил костюм, до краев набитый записками, обрывками, блокнотами и прочей бумажной ерундой (примета нашей профессии) – и достал сложенный вдвое лист.
– Вот это я как-то нашел в Публичке, – сказал он.
Я развернул лист. Сверху стояло: «Герменон. Алхимия, б/д». Почерк был Вени.
– Восемнадцатый век, – пояснил он. – Думаю, из книг Новикова.
Я прочел:
«О саламандрах. Они способны являться смертным иногда на час, иногда на год, словно суккубы, в обличии дивных существ. Объятья их пылки, хотя сами они холодны, так как огонь их стихия. Этим опасны они, ибо могут обжечь душу счастьем, которое щедро дарят. Есть среди них и другие, родившиеся как дети и умирающие как старики. Тогда они не помнят мир, который изверг их, но ищут к нему путей, неустанны в поисках. Когда находят, ускользают прочь, и ничто не в силах их удержать. Часто хотят увлечь с собой свою жертву…»
Я вернул лист. Он снова сложил его вдвое и спрятал назад в карман. Мы с минуту молчали.
– А Дант? – спросил я потом.
– Разве ты не понял? – Он смешно задрал бровь. – Прочти «Vita Nova». Просто там все наоборот – это не важно, что он не спал с ней. Другой век, нравы. Он-то был колдун половчей моей Инны.
– Колдун? Дант?! Что ты плетешь?
– Как что? Это же ясно! Знаем мы их любовь! Это он своими поклонами да стишками загнал Беатриче на небо!
Сотовый мед
Тем, кто жил в общежитии, известен дурной нрав кастелянш. Их бранят даже чаще, чем комендантов. Впрочем, комендант, уже в силу военного свойства своей должности, неумолим как рок и способен доставлять хлопоты большие, а кастелянша – маленькие. У ней вечно не выпросишь белья; она всегда ворчит, когда сдаешь ей грязное; она всегда ищет недочет и требует что-то, чего бедный житель казенной комнаты не видал и в глаза: какое-нибудь махровое полотенце или третью из двух несдвигаемых на окне штор. Хуже нет, чем ее дежурства на вахте. Однако круг ее прав ограничен. Ее власть скудна. Ее не боятся. Иное дело – комендант, особенно женщина. Кажется, что мужской дух воплотился в ней, как в андрогине. Ее сторонятся, избегают, нарочно стараются не попасть ей на глаза. Ее явление в комнате подобно визиту городового. Она у себя – мелкий бог и возглавляет триумвират фурий, где кастелянша на втором, а техничка на третьем месте. Но техничка вовсе не идет в счет. Что касается кастелянши, то она часто бывает старей всех других обитателей общежития, работает сверх срока, вполсилы, между тем получает и пенсию… Судьба ее самая жалкая. Разве лишь сестра-хозяйка в больнице может сравниться с ней.
Нашу кастеляншу звали Варвара Саввишна. Мне это имя казалось таким же древним и скучным, как она сама. Впрочем, надо признать, ее должность испортила бы любое имя. Особых обид на нее у меня не было, я вообще редко видел ее. Голова ее сильно тряслась – ей было за семьдесят, – к тому же она страдала отеком ног. От этого ходила медленно и с трудом. В коридоре ее было слышно издалека. Жила она тут же, на Мытне, в особой комнате возле склада. Склад всегда был на замке. Там крепко пах служебный нафталин, а он очень едок против домашнего. В ее комнату запах тоже проникал. Это я узнал случайно, когда, выздоровев от гриппа (я еще кашлял), спустился к ней за теплым покрывалом. Я не слишком верил в успех экспедиции – зимний сезон уже кончился, – но полагал, что, может быть, лишний комплект завалялся где-нибудь на складе. Я застал ее за странным делом: она точила ножи.
Ее комната, узкая щель, в высоту большая, чем в ширину и длину, играла у ней роль спальни, кухни и гостиной – все сразу. Сейчас это была кухня. На единственном столе лежала клеенка и кое-что из съестного. К ущербному краю была косо привешена мясорубка. Тут же в углу была мраморная доска. И вот об эту доску с проворством китайца из цирка Варвара Саввишна шаркала лезвием так, что искры валились на пол, как звезды. Нож ходил дугой. Я стоял, открыв рот.
– Где вы это так наловчились, Варвара Саввишна? – спросил я наконец, справившись с изумлением.
Было похоже, она смутилась, но дела не прервала.
– Сядь, – велела она, ткнув ножом в сторону стула.
Я прошел и сел. Нож был заточен, за ним второй, третий… Лезвия сверкали на воздухе.
– Жизнь учит, – сказала она погодя. И, услышав мой кашель, спросила: – Болел?
– Болел, – кивнул я, про себя раздумывая, как бы ловчей перейти к покрывалу.
– Грипп?
– ОРЗ.
– Это они там только так пишут, что ОРЗ, – вздохнула она с досадой, – чтоб бюллетень закрыть. Раньше писали – инфлюэнца. Как Нева вскроется, так инфлюэнца… А тут климат плохой. Тут так нельзя: сырость.
Я заерзал на месте: ничего лучше она не могла сказать. Язык мой чесался, но она вдруг отложила нож. Пальцы ее сразу задрожали – это было удивительно видеть после трюка с заточкой. Она строго глядела на меня.
– Сейчас тебе чай налью, – сказала она. – Дочь сотовый мед привезла. Поешь.
Это не входило в мои планы. Но она уже двинулась к буфету, тяжко ступая на половицах. Отказаться было нельзя. Явился мед, пряники.
Кипяток вскоре поспел. Запах заварки перебил нафталин. Но удобный миг был упущен. Чтобы продлить время, я спросил ее о ее прошлом. Она ответила, я спросил еще. Четверть часа спустя она извлекла из-под койки укладку и, открыв замок, откинула верх.
Тут было все богатство ее. Я увидел пуховую шаль, документы, письма, справки, какие-то свертки, банковскую книжку, блокнот… Она долго перебирала листки. Потом вынула фотографию и подала мне. Это был старый снимок: две девушки в пышных платьях и шляпках, завязанных под подбородок на бант.
– Вот эта – я, – пояснила она, стукнув пальцем по той, что казалась смелее: твердый взгляд, чуть припухлые губы. – А это Наташа. Она давно умерла.
В синем тумане снимка юная Варвара Саввишна была хороша. Я задал вопрос. Она ответила тотчас. Потом стала говорить, прихлебывая чай. Ее повесть была самая простая.
Родителей она не знала. Из приюта перешла в интернат. В семнадцать лет была комсомолка и целый год жила в коммуне. Их было несколько по стране. Коммуна, или, как тогда еще говорили, «фаланстерия», занимала дом в три этажа без всякой архитектуры, с большим двором и дровяным складом. Склад отчасти спасал зимой. Коммунары работали на дворе, спали в общих спальнях и ели за одним столом. Это было похоже на приют. В отличие от приюта тут была особая – «физиологическая» – комната: считалось, что «жены» тоже должны быть для всех. Варвара Саввишна была общей женой. Ей это было весело, она пользовалась спросом; раз как-то весь день провела в той комнате и не могла понять, почему других девушек это злит.
– Кроме Наташи, – уточнила она.
Вдруг коммуну закрыли – в тот же год, что и РАПП; она была признана анархистской. Коммунары разбрелись кто куда. Варвара Саввишна и Наташа остались на улице. Но уже вся столица по ночам была большая коммуна. Стало еще лучше и веселей. Появились деньги, какая-то комната на Литейном… За Наташей ухаживал известный писатель из Москвы, которого звали странно: то Юра, то Алеша… Был чудный вечер над Невкой. Они наняли «дутики» – две коляски на шинах. В те времена (как во все времена, кроме моих) еще были коляски. Извозчики пестрили быт. Один был старый, почтенный, как заседатель, с ватной бородой и в ватной куртке; он едва шевелил вожжи. Другой – вертлявый щегольской форейтор – все спрашивал, не зажечь ли фонарь, и пел дискантом: «Мой Лизочик так уж мал, так уж мал…» Фонарь был не нужен, была белая ночь. Писатель целовал Наташу в губки и что-то шептал и обещал ей, но Варвара Саввишна не слыхала, что именно: ее тоже целовали в губки. Дутики тихо ползли вдоль набережной. И вдруг белесое небо треснуло, как шутовской живот циркача, и оттуда просыпалась вниз горсть ракет. Где-то взвизгнули, засмеялись, смех плыл по реке… Потом она сама попала под кампанию. Жизнь учила точить ножи – в спецлагере в Свири, бывших монастырских угодьях. Она пыталась бежать, была возвращена. В войну штамповала гильзы. Ее дочь была плод тыловой скуки. Я видел карточку – ничего общего с матерью: крупные скулы, плоский нос. Она вышла замуж и уехала в деревню. И теперь наезжала в город с мужем на «запорожце», навещала мать. К себе не звала. Варвара Саввишна и сама не хотела. Здесь она жила как всегда.