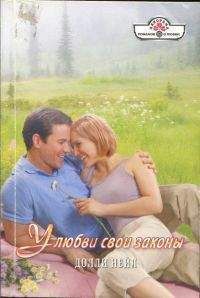Марк Берколайко - Фарватер
– А где мы встречались? На фронте?
– Нет, в венском шахматном кафе.
Стильно, но неброско одетый господин раздражал Гунна, тогда недоучившегося студиозуса Белу, чрезвычайно. Например, маршами своих фигур и пешек: не перемещениями, не ходами, а именно что быстрыми маршами с ранее оккупированных полей на новые – будто доска была совокупностью крепостей, сдающихся одна за другой. И манерой «съедать материал» – из сжатого кулака молниеносно выбрасывались три жадных пальца, фигура или пешка Белы трепыхалась в них долю секунды, а затем падала в специальный ящичек со стуком, оповещающим, что нечто превратилось в ничто. После чего рыжие волосики на пальцах и кисти, топорщившиеся в моменты бросков и удушений, мирно укладывались, приглашая себя погладить.
Во всех пяти сыгранных партиях студиозус, как ни сопротивлялся, получал «шах и мат» не далее тридцатого хода – и, хоть играли по маленькой, кафе покидал без грошика в кармане…
И еще стоило вспомнить, что, пока пробирался между столиками, за одним из них разгорелся скандал. Журналист с инфернально горящими глазами уверял зрителей, будто соперник коснулся фигуры намеренно. Уверял напористо, заглушая лепет оправдывающегося почтенного венца, нетерпеливо тянулся к его крупной ставке… Но тут разоривший Белу и мигом оказавшийся неподалеку господин сказал, ни к кому вроде бы не обращаясь:
– Касание было случайным, свидетельствую. А любой, кто посмеет утверждать обратное, – бесчестный человек, который немедленно получит от меня пощечину!
Журналист побелел, сгреб свою ставку и выскочил из кафе.
Скандалившим журналистом был Троцкий, о чем при встречах с председателем Реввоенсовета Гунн предусмотрительно забывал. Но еще несообразнее и абсурднее было то, что респектабельный шахматист, говоривший тогда, в Вене, на безукоризненном немецком, теперь, в Крыму, стоя в шеренге смертников, говорил на уверенном венгерском, был вызывающе безобразен, а его борода топорщилась еще яростнее, нежели волосики на пальцах, хватавших вражьи фигуры.
– Кто это? – спросил Гунн у Федьки.
– Анархист, друг Семена Каретника! – отрапортовал тот.
– Полно вам слушать бредни! – еще напористее, все так же на венгерском, воскликнул Шебутнов. – Вы меня прекрасно вспомнили как инженера из России, стажирующегося на сталелитейном заводе Витгенштейна. Но и то была легенда, в отличие от нынешней тщательно разработанная. На самом же деле я – Генерального штаба подполковник Михаил Шебутнов, разведчик и контрразведчик. Увидитесь с Троцким, передайте: более всего жалею, что в венском кафе его не прибил. Стоп! Не хватайтесь за маузер, учтите, ваш идиот-янычар Федька передал уже Землячке мою записку, в коей она уведомляется, что жажду сообщить сведения, крайне важные для нее лично. Так что смиритесь: до нашей с мадам встречи персона я неприкосновенная. Но и не трусьте так явственно: сведения мои к вам никакого касательства не имеют.
С каким облегчением Гунн скомандовал бы «пли!», с какой радостью прикончил бы потом и Волошина, и продажного мерзавца Федьку! Но вместо того он, как завороженный, вглядывался с непривычной для себя зоркостью в лицо Шебутнова… И обнаружил, что нижняя губа подполковника в улыбке не растягивается – мешает грубый рубец посредине, след то ли жестокой драки, то ли демонстративно кровавого избиения. Зато верхняя губа поднялась, чуть задравшись, – и ничего человеческого в этом оскале не было. Так волки обнажают клыки, оповещая добычу, что она – добыта.
И оставалось Гунну только одно: решить, будто речи разведчика – это случайно долетевшие до ушей отзвуки прежних забав, прежней игры, где были Коложвар, Будапешт, Вена, война, упоение безумием венгерской революции 1919 года, упоение нынешним крымским безумием… Слабые отзвуки прошлого, теперь уже мало значащего – потому что после доноса на Троцкого тот навечно стал его, Гунна, смертельным врагом… Слабые отзвуки теперь уже ничего не значащего прошлого, потому что неторопливый Иосиф добился для него, Гунна, сравнительно мирного отзыва из Крыма, защитил от расследований Комиссии партийного контроля и выхлопотал должность в Коминтерне. Под началом Григория Зиновьева, еще одного претендента на ленинское кресло.
Стало быть, ему, Гунну, отныне «человеку Кобы», придется нелегко, придется изворачиваться между Сталиным, Троцким и Зиновьевым, стало быть, пошла совсем другая игра, вовсе не в шахматы!
Так делай, Бела, хорошую, самую лучшую мину вопреки всем и всему – глядишь, при такой мине и игра станет хорошей!
Не поскупись, Бела, на задуманный эффектный жест – избегающему эффектных жестов никогда не быть вождем.
– Максимилиан Александрович! – отлично, голос тверд. – Вот десять врагов Советской власти. Все они заслуживают смерти, но мы умеем быть великодушными. Я даю вам право вывести из шеренги любого, за кого готовы поручиться, и он получит от меня свидетельство о полной реабилитации. Но не дай бог ему провиниться когда-нибудь еще! И вам, поручившемуся за него, не дай бог! …Ну же, готовы подарить жизнь одному из десяти? Разве индульгенция для ближнего – это плохая цена вашему стихотворению? Да еще и весьма слабому, всего-то навсего – о любви!
Много позже, в 1936 году, на одном из кремлевских празднеств, Гунн подошел к Кобе, пребывавшему в самом веселом расположении духа. Сказал радостно: «Я часто вспоминаю, как вы шутили со мною в Крыму, товарищ Сталин!» – и устремил свой бокал к бокалу Хозяина.
Но ответного, такого желаемого Гунном движения не случилось.
А было сказано глуховато, с режущим ухо «кальвинистического еврея или еврейского кальвиниста» акцентом: «Шутил?! С вами, товарищ Кун, я никогда не шутил… И не буду». И все поняли, что видный деятель международного рабочего движения в эту самую секунду списан… Точнее, вписан в страшные, никому не ведомые Списки. Даже официанты поняли, и «видный деятель» тут же стал для них незамечаем…
Выйдя из Кремля, Гунн плелся домой, с мольбою вглядываясь в небо и спрашивая: «За что?! Меня-то – за что?!»
Но спрашивая, подразумевал: «За что меня – он, Коба?», а вовсе не «За что – оно, Небо?».
Волошин с ужасом обнаружил, что идет к шеренге. Как же так? Он же хотел навалиться на комиссара – по-медвежьи, всеми своими семью с лишним пудами, – чтобы разорвать, чтобы исчезла гадостная улыбочка под вывеской из смоляных усов…
Или хотел плюнуть в самодовольную рожу, чтобы Кун долго потом смывал липкую, вязкую слюну…
Нет, нет, лучше всего было – захохотать, подобно Пьеру Безухову, и тем убедить, что невозможно убить бессмертные души этих десятерых, бессмертную душу его, поэта и художника, бессмертную душу России, наконец!..
Но он идет к шеренге… он примкнет к ней одиннадцатым и прокричит во всю стянутую вязкой слюной глотку: «Стреляйте и будьте прокляты!»
Но, с другой стороны, есть ли смысл погибать одиннадцатым, если можно спасти хоть одного?.. А в чем вообще есть смысл – если даже всегда безотказно служившие ноги упорно не хотят нести привычную тяжесть семи с лишним пудов?.. Они стали бессильными, его ноги, он весь стал бессильным… «ревела от сознания бессилья тварь скользкая…» – интересно, Николай написал «Шестое чувство» до или после их дуэли в 1909 году?.. Надо спросить у него, когда было написано «Шестое чувство» – до их дуэли на Черной речке или после?
Положительно, он сходит с ума!
«Ум, – спросил Волошин жалобно, – не отказывай быть со мною, лучше ответь, почему мне так хочется говорить с Николаем?»
«Ты же старался забыть то ноябрьское утро, – укорил ум. – А теперь пришла пора… Вспоминай, вспоминай… Как Гумилев сразу же выстрелил в воздух, и как тебе, сукину сыну, стало после этого весело. Ты целился ему то в грудь, как когда-то Пушкин на Черной речке, то в живот, как когда-то Дантес на Черной речке… Потом, в ресторане, бывший твоим секундантом Алешка Толстой приговаривал, разочарованно причмокивая: «Чертовски жаль! Я мечтал увидеть, как выглядит «кровь ручьем».
Это твоя кровь, Макс, побежала бы ручьем, если б Гумилев, отличный стрелок, прицелился в тебя. Но он выстрелил в воздух, а ты, обалдев от радости бытия, развлекался, направляя пистолет то в живот Гумилева, то в грудь. Это же обычная твоя манера: стоя у этюдника, долго водить кистью в воздухе, примериваясь к очертаниям скалы или утеса… ты и к Гумилеву будто бы примеривался… потом наметил тонкую ветку выше его головы и выстрелил.
Срезанная пулей, она падала медленно, ударяясь о другие ветви, такие же черные…
Твой палец на курке мог случайно дрогнуть, а ты так тщательно примеривался к Гумилеву, что он, не успев написать «… вопит наш дух, изнемогает плоть, рождая орган для шестого чувства», медленно падал бы… на Черной речке…
Ты примеривался к Гумилеву, только не кистью, а смертью. Пришла пора расплачиваться, глупо было надеяться, что она никогда не придет».