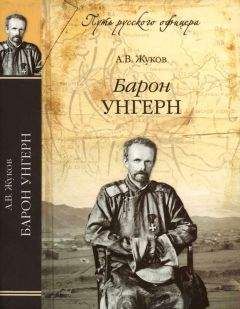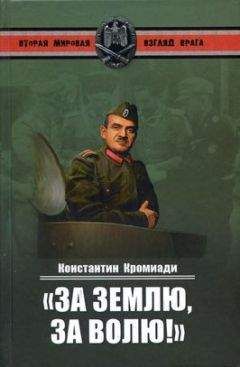Игорь Воеводин - Повелитель монгольского ветра (сборник)
Изгрызенный солдатский Георгий висел на левой стороне халата барона.
И большой перстень с камнем, казавшимся черным, был надет на мизинец правой руки, лежавшей на плече сына.
Мальчик был похож на отца.
Тот же взгляд прозрачных, хотя и раскосых глаз, тот же упрямый подбородок, тот же высокий лоб.
– Его… Его недострелили? – спросил потрясенный Орлов.
– Дострелили, – ответила баронесса. – Но князь Бекханов тут же выкупил у палачей тело, а ламы, присланные Богдо-гэгеном, пока жизнь в нем еще теплилась, сумели сделать невозможное. Да вы же и сами сказали, такие не умирают…
Орлов открыл рот и хотел сказать еще что-то, но баронесса не дала ему слова, поймав на вдохе.
– Идите, – сказала она, и историк удалился.
…Часы пробили семь. Огонь пожирал дрова в камине, смола выкипала со стоном.
– Да. Бокал красного, пожалуйста, – ответила хозяйка на вопрос горничной, – и ради бога, больше никаких посетителей.
Девушка поклонилась и вышла. Баронесса сидела перед портретом в старинном высоком и неудобном кресле.
Она смотрела ему прямо в глаза.
Глаза ее были сухи.
15 мая 2006 года, Звенигородское шоссе, Подмосковье, Россия
…Длинный ряд автомобилей стоял у железнодорожного переезда. Тетка в оранжевой жилетке равнодушно наблюдала с крыльца, как парятся в машинах по обе стороны ветки ожидавшие. Желтые и красные флажки торчали у нее из-за пояса, натужно, надрывно звенел сигнал шлагбаума да посвистывал, покряхтывал маневровый, то пятясь к переезду, то, передумав, откатываясь вглубь, туда, где возилась на путях бригада ремонтников.
– Страна дураков, – сплюнул в окно машины сигаретку малый лет сорока, в шортах, в маечке, сидевший за рулем передней «девятки», и повернул погромче рукоятку радиолы.
Вдоль замерших машин двигалась женщина лет тридцати, вся в черном, в черном же платке, повязанном по-вдовьи, толкая перед собой инвалидную коляску.
В ней сидел мужчина.
Странным было то, что оба они были одеты во все черное, на ногах – высокие армейского образца берцы, на глазах черные очки, только у мужчины круглые, в синеву, как у слепого, у нее большие, зеркальные.
Из окон машин иногда подавали, и тогда женщина, поклонившись, внимательно всматривалась в лицо подавшего и сухо роняла:
– Спаси вас Господь.
Но чаще окна автомобилей оставались непроницаемыми, и странная, во все черное одетая пара нищих отражалась в их надраенных стеклах.
В машинах шла жизнь. В огромном «мерседесе» дядя лет шестидесяти пяти с депутатским значком на лацкане костюма с отливом снисходительно слушал щебетавшую у него на коленях активисточку из молодых.
– У региональных представительств должно быть больше прав! – куковала она.
– Но и обязанностей тоже, – хитро прищуривался дядя.
Активисточка потупилась.
– Наше дело – слушать старших, – проблеяла она.
В другом, серебристом «ауди», взасос целовались известный стилист и его юный ученик.
– Я с ума сойду, – томно вздохнул практикант.
В третьем, «БМВ» седьмой серии, вели деловой разговор молодые люди с ноутбуками и неуловимыми глазами, и только шелестели, как купюры, в салоне сухие слова: «нал», «безнал», «бабло».
В четвертом, роскошном джипе «лексус», сидел на заднем сиденье Сынуля. Из всех шести колонок автомобиля неслось:
Черный бумер, черный бумер,
Стоп-сигнальные огни!
Черный бумер, черный бумер,
Если можешь, догони!
– Убери эту хренотень! – поморщился Сынуля и протянул водителю диск. – На, поставь…
Магнитола заглотила пластинку, и салон машины наполнили мощные аккорды второй части заупокойной католической мессы, реквиема.
Dies ime, dies illa
Soluet saeclum in favilla
Teste David cum Sibylla.
Quantus fremor est futurus,
Quando judex est venturus
Cuneta stricte cliseussurus.
(День гнева, тот день,
В золе развеет земное,
Свидетелями Давид с Сивиллой.
Какой будет трепет,
Когда придет судья,
Который все строго рассудит.)
Хор пел, и даже впервые слышавшие латынь ощущали значительность слышанного.
– Удивительно, – обратился Сынуля к журналистке светской хроники, прыщавой и длинноногой, сидевшей рядом и глотавшей каждое его слово, как наживку, – удивительно, но в основе ритмики этого стихотворного текста лежат не различия в долготе слов, как в классической латинской поэзии, а ударение, уже утратившее в то время музыкальный характер. Каждый стих состоит из четырех стоп, в которых чередуются ударный и безударный слоги.
Та сглотнула, и рука Сынули продвинулась чуть выше по ее обнаженной ноге, к краю черной мини-юбки.
Водитель сидел недвижим, и затылок его был красен. Пучки волос отсвечивали на солнце из левого бугристого уха.
Пара в черном поравнялась с «лексусом».
– Открой, – лениво уронил Сынуля, и водитель нажал на кнопку. Стекло плавно двинулось вниз, и Сынуля, оперевшись левой рукой о ляжку собеседницы и заодно продвинувшись чуть выше, сунул в окно сотенную: – На.
Нищенка протянула руку, но не спроворила, и купюра, колыхаясь, как бабочка, полетела на асфальт.
– Простите, – чуть слышно сказала она и наклонилась поднять. Слепой на коляске, казалось, взглянул в глаза Сынуле.
– Не люблю я их, – принужденно хмыкнул тот и, откинувшись на сиденье, скомандовал: – Закрой.
Но его жег и жег черный взгляд слепых глаз за синими очками инвалида.
Смерть и рождение оцепенеет,
Когда восстанут творения,
Чтобы дать ответ судящему, —
неслось из динамиков.
– Вы такой щедрый к этим… как их, – девица сморщила длинный носик, – к побирушкам…
– Да, и Моцарт это превосходно учел в своем произведении, – продолжал повествовать Сынуля.
«Будет, будет дадено», – победно билось у него в мозгу. «Уж я тебя, сукин кот, окручу, – звенело в мозжечке у девицы, – слуплю с тебя по полной программе…»
«Ух, засадить бы кому, – думалось водителю, – или на клык кому навалить… А чего он нашел в этой носатенькой? Ни сиськи, ни письки…»
Что скажу тогда я, жалкий,
К какому покровителю буду взывать,
Когда и праведный будет едва
Защищен от грозы? —
отражалось от кожаных стен.
Между тем нищенка, наклонившись, быстрым, как у змеи, движением сунула под дно автомобиля магнитный брикет и щелкнула тумблером.
Зажглась красным лампочка, и цифры на индикаторе побежали – 180… 179… 78…
Но она уронила очки.
Выпрямившись, она постаралась отвернуться, чтобы остаться неузнанной, но Сынуля был поглощен вниманием хроникерши.
Впрочем, в последних двух сантиметрах просвета закрывающегося окна мелькнуло знакомое лицо, зеленые распутные глаза, засев в мозгу занозой.
Он было приостановился, чтобы домыслить, узнать, докопаться, где он видел их, эти глаза, но тут хроникерша сама подалась вперед, напоровшись влажным лоном на пятерню.
– И что? – с придыханием спросила она.
Правый судья возмездия,
Даруй мне дар отпущения
Перед лицом судного дня, —
слушал Сынок, задыхаясь.
64… 63… 62… тикали и тикали цифирки на счетчике, отсчитывая мгновения.
Нищая пара дошла до конца пробки. Здесь, слева от хвоста, в черном джипе сидели Ганс, Алок и Граф. Бек-хан снял очки.
Я стенаю, как осужденный,
Краска вины на моих ланитах,
Пощади, Боже, молящего, —
неслось над колонной.
31… 30… 29… – тикал счетчик.
Внезапно Маргарита увидела девочку, маленькую девочку, выбежавшую с корзинкой и с венком ромашек в волосах из леса на обочину. Видимо, она обогнала родителей и первой оказалась на трассе.
В следующий миг, не раздумывая, Маргарита бросилась к ней.
Ноги были ватными, все потонуло в тишине, и только тикало и тикало ее сердце: 16… 15… 14…
Отвергнув тех, кто проклят,
Обреченных пронзающему пламени,
Призови меня вместе с благословенными, —
машинально продолжал слушать Сынуля и вдруг вспомнил. Вспомнил, какими глазами смотрела избиваемая и насилуемая Рита.
– Ка… – он задохнулся, – каа…
– Что такое? – с деланым, наигранным участием спросила хроникерша и положила ему руку на чресла. – Вам помочь?
8… 7… 6… – отстукивала мина.
– Каа! – продолжал хрипеть Сынуля и тянулся, тянулся к окну. – Кааа!
Плачевен тот день,
В который восстанет из пепла…
Маргарита, добежав до девочки и схватив ее в охапку, кубарем скатилась в лес. В окне джипа мелькнул ее силуэт.
– Байартай! – внезапно появились буквы на экране дисплея. Что-то щелкнуло, и музыка оборвалась.