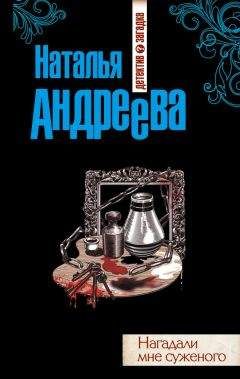Максим Гуреев - Покоритель орнамента (сборник)
По привычке Немец начинал урок с чтения правил и канона на утро и на повечерие. Часы. Ученики должны были повторять за ним хором. Павел Карлович смотрел поверх очков на склоненные перед ним бритые головы, чутко слушал ноты или «соли», как здесь было принято говорить, рисовал на пузырящейся от сырости доске горовосходный холм и отмечал мелом голоса – Вонифатия, Петра, архистратига Михаила, Евода, Каиафы, Иосафа и Иосафата, Ирода, Ермы, Эльпидифора, Авды, Иова, Евстафия, Савватия, Кирика, Афанасия, Кирилла, Коприя, Пахомия, Зоровавеля, Фотия, Пимена – имена старцев-праотцов и пророков…
Немец прохаживался по классу и, остановившись около одного из учеников, произносил:
– Извольте проспрягать глаголы «происходить» и «отвлекать».
Хор тут же замолкал, и губы начинали перешептываться, шелестя запекшимися болячками. Ученик, комкая огрызок тетрадочного листка, на котором карандашом было написано задание, обреченно вставал и медленно выходил на деревянный пол – Голгофу, ступал босиком; засовывал мизинец или большой палец в щель между досками, показывал всем фиолетово-синие ладони, в том смысле, что тратил, тратил-таки чернильную личину, мог даже и ковыряться пальцем в носу, извлекая желтые мутные тигли, но это уж слишком!
– Мы слушаем вас, – с плохо скрываемым раздражением говорил Павел Карлович, – ну же!
– «Происходу», – предполагал ученик, правда, более чем неуверенно, и забывался, и отворачивался к окну, за которым качались старые деревья парка. В классе раздавался смех – «Господи помилуй! Происходу! Происходу! Господи помилуй!» – Павел Карлович, притворив правое ухо указательным пальцем, пробовал ноту, требовал, чтобы хор проделал то же самое. Затем подходил к доске с нарисованным на ней горовосходным холмом святого Иоанна Дамаскина и жирно знаменовал голос «Ездра», так что мел крошился снегом на пол.
– Ездра! Ездра! А не Дионисий и не Антоний!!!
– Происхожу! Происхожу! А не происходу, не происходу! – повторял хор. В данном случае было даже дозволительно благовествовать крышками столов, за отсутствием малых звонниц.
– Вы слышите меня?! – кричал Павел Карлович в самодельную жестяную воронку, вставленную в ухо ученику. Ученик плакал и размазывал слезы по лицу грязным кулаком.
– Да он у нас глухой! Ничего не слышит! – подсказывали откуда-то с задних рядов.
– Прошу садиться, – Немец вытирал мокрой тряпкой руки. Ученик вынимал мизинец или большой палец ноги из щели между досками пола и, сгорбившись совершенно, возвращался на место. По дороге между рядами столов его хватали за штаны, щипали, обзывали дураком, а в отставленные под скамейкой ботинки уже успевали написать или засунуть обмочившегося со страху слепого мохнатого зверя с когтями.
Когда после уроков Немец проходил под деревьями, то ученики, сидевшие на них, кидали в него отломанными ветками. И ветер бесчинствовал в вышине. Это был старый сад на окраине города рядом с конечной автобусной остановкой и водолазной станцией, где в железных, сваренных из автомобильных кузовов ящиках коптили рыбу. Ученики здесь ловили птиц, по преимуществу воробьев, перекрашивали их в желтый цвет, загодя заклеив пластырем черные подвижные капли глазков, чтобы не замазать краской по неосторожности. Убивали, а потом несли продавать эту дохлятину на вокзал цыганам или подбрасывали в открытые форточки окон первого этажа. Ученики смеялись. Несколько ветвей упало на фуражку и плечи Павла Карловича, а остальные ветви падали, разоряя копны собранных листьев и скошенного клевера.
Уроки заканчивались, и наступали сумерки, и наступал туман с залива.
Глухой мальчик сидел во дворе школы на срубленном кусте благоухающего винограда и, казалось, дремал, чтобы успокоиться перед пением гимна Богородице.
Значит – время петь гимн Богородице.
Движением руки Павел Карлович поднимал класс, а сам восходил на кафедру. «Замри», – говорили друг другу ученики, «Умри», – говорили друг другу одни, «Воскресни», – говорили другие. Школьный сторож, завернутый в одеяло архиерей, зажигал слюдяной фонарь перед образом Богородицы. Ученики вздыхали, наполняясь благовониями. Канонарх затаивался, вкушая древний хасмонейский гортанный клекот.
Это левит.
Это левит в пустыне.
Трамвай остановился. Вера, взяв Павла Карловича за руку, вывела его из вагона на остановку. После дождя здесь всегда пахнет рекой, и весной Маньчжурия зацветает. Маньчжурия – это старый район города, застроенный огромными доходными домами, необъяснимо перетекающими друг в друга воздушными путями кирпичного орнамента вислых бесцветных кружев. Разновысоких кружев, порой и чугунных кружев. Тут соты проходных дворов и деревянных ворот со стражниками, а из окон высыпают ведра с песком и пеплом.
Квартал оказался оцеплен. Въезд на улицу был перегорожен двумя армейскими грузовиками, видимо, шла очередная облава. Веру и Павла Карловича обогнал тяжелый милицейский мотоцикл, в коляске которого конвойный в перехваченной под подбородком фуражке держал огромную торпедоподобную овчарку с красной дымящейся паром пастью. Мотоцикл свернул в проулок. По мостовой прохаживался регулировщик, облаченный в кожаную броню, притоптывал, ежеминутно поправлял целлулоидный шлем, может быть, даже и был кривошеим, потому как рисовал подбородком неправильные окружности. Это горло, а это позвоночник. Увидев идущих ему навстречу Веру и Немца, он заулыбался, проверил натяжение портупеи, в которую был спеленут, и, загородив огромных размеров черно-белыми полосатыми крагами путь, пробасил: «Туда нельзя».
– Как это нельзя? – Павел Карлович выступил вперед, он, кажется, теперь очнулся от своих дум и тошнотворного забытья, – мы там живем!
– Нельзя! Не велено пускать, – регулировщик перестал улыбаться и составил сапоги вместе, – вот заарестуем, тогда и будет можно, а пока нельзя!
– Кого?
– Чего – кого?
– Кого заарестуете-то?
– Кого, кого… Кого надо, вам знать не надо.
– Понимаете, – не унимался Немец, – вот эта женщина, – он указал на Веру, – сегодня похоронила свою дочь!
– Ну-у…
– Что «ну»?!
– Зачем?! Зачем вы все это говорите! Оставьте меня в покое! – проговорила Вера.
– Молчите! Прошу вас, молчите! – Павел Карлович даже сокрыл женщину, но подглядел, что она при этом делает: отвернулась и закрыла лицо платком.
– …Так вот, у этой женщины сегодня умерла дочь, правда, приемная дочь, приемная дочь, но все же, и мы ходили хоронить ее на Смоленское кладбище. Понимаете вы или нет? А теперь ей нужно попасть домой, она себя очень плохо чувствует, тем более что сейчас, скорее всего, пойдет дождь или снег, взгляните на небо! Взгляните! Взгляните, молодой человек!
Регулировщик опустил глаза долу и чистил ногти одной руки ногтями другой. Кожаные мертвые перчатки он воткнул за голенища сапог.
– Боже мой! Боже мой! Вы слышите меня? Вы понимаете меня? – Немец пытался заглянуть в лицо регулировщику.
– Не понимаю я ничего.
– Но что же нам делать?
– Не велено.
– Ведь скоро ночь, и где, скажите на милость, где прикажете нам ночевать? А? Может быть, здесь на улице или под мостом?
– Под мостом, под мостом, нашли гитлера с хвостом, – регулировщик перестал чистить ногти и почесал ими подбородок.
– Какого еще гитлера?
– С хвостом!
Павел Карлович схватил регулировщика за толстые ноги и принялся тащить его на себя, притом что регулировщик нисколько не сопротивлялся, а лишь лениво или нехотя отбрыкивался и просил оставить его в покое. Немцу даже удалось сдвинуть это египетское сооружение с места, подобно тому как оживляют базальтовую стопудовую плиту-мастабу. И вот она, то есть плита – дверь в загробное царство, потусторонний иллюзорный мир сна, вздрагивает и, скрежеща по изъеденным кислотой рельсам, съезжает, приглашая в свои внутренности, говорит: «Иди и смотри!»
Регулировщик тоже схватил Павла Карловича за ноги. Мыча, они боролись посреди пустой улицы. Через некоторое время неизвестно откуда – ведь все здесь так напоминало исихастирион или покоище – появились люди и, собравшись в разноцветную молчаливую толпу, наблюдали за борцами. Некто мог даже и предполагать, давая советы, к примеру – «ты его за голову бери» или «души, так верней будет». Средневековое уличное действо-напоминание, мистерию нарушил выехавший из проулка милицейский мотоцикл с коляской, набитой собачьей шерстью и длинными хвостами опричников. Круто развернувшись и нарисовав на асфальте черные резиновые пути, толстый безухий прапорщик из конвоя привстал в седле и заорал на всю улицу:
– Слышь, Белов, ты чего это тут делаешь, давай поехали!
Оттолкнув от себя в сторону еле живого Немца, регулировщик степенно встал, оправил перекрученную форму и, отдышавшись полностью, ответил:
– Да вот, пускать не велено, так и не пускаю.
При виде мотоцикла и понимая, что представление прекратилось, люди стали нехотя расходиться.