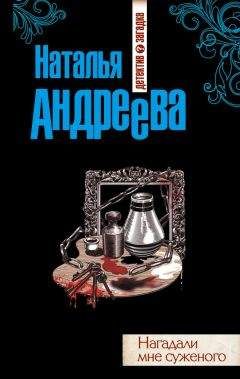Максим Гуреев - Покоритель орнамента (сборник)
– Прошу вас, не надо больше ничего говорить мне о ней, я ведь даже и не жила все это время, а болела ею, тем, как она дышит, как не узнает меня или делает вид, что не узнает, как закрывает глаза, как спит, как днем бредит, а ночью слушает звук луны, как умирает невыносимо долго. И вот теперь все кончилось. Помните, как она говорила, что после пожара у нее не стало родителей, в том смысле, что их и не было никогда, ведь так могут говорить только маленькие блаженные дети, – Вера остановилась, – впрочем, вы не знали этого, у меня уже все перепуталось в голове, просто не могли знать, потому как разговор об этом происходил в больнице, откуда я забирала Феофанию.
– Да, к сожалению…
– Ну зачем, зачем, скажите на милость, мне ваше сожаление, ваше сочувствие, будь оно проклято, ваши рассказы о ней, видите ли, как вы гуляли, как встретили какую-то умалишенную нищенку, зачем? зачем все это мне теперь, потому что Феофании, теперь я это понимаю наверняка, и не было вообще!
– Прошу вас! Прошу вас, успокойтесь! – говорил Павел Карлович, кусал губы, топтался на месте, пытался гладить Веру по волосам.
– Конечно! Конечно ее не было, – женщина даже улыбнулась собственному предположению, – и почему именно Феофания? Вы знаете?
– Нет, – растерялся Немец, – не знаю.
– В старых книгах это называется откровением, новым откровением, понимаете, благовествованием, как будет угодно, неизреченной истиной, тем, чего не может быть, и имя это возникло как-то само собой, его никто не давал ей, но и сама она не приносила его начертанным в ковчежце обещанием. Обещанием родительскому обещанию, завету, ведь она даже не знала своих родителей, вернее, она утверждала, что их у нее не было. Какое же все это, однако, вранье! Вранье! Боже мой! Боже мой, где же я слышала эти слова? Где?
– Прошу вас, пойдемте домой, вам надо отдохнуть, прошу вас, пожалуйста.
В конце апреля Вера уволилась с почты, потому что должна была сидеть с девочкой. Феофания в то время почти не вставала. Припадки прекратились, вероятно, в этом следовало усматривать благотворное влияние источника, однако по ночам девочка совершенно перестала спать, плакала, говорила, что внутри нее кто-то поселился и ест ее, и ей поэтому нестерпимо больно. Хотя нет, не больно, но томительно, тошно, однообразно, медленно-медленно. День кажется таким медленным, когда пасмурные сумерки прячутся в окне за толстым шитым крестами занавесом. Полдень ничем не отличается от полнолуния, половина рассвета уподобливается половине угасания, меж тем благодатная ночь приносит далекие шумы железнодорожных переездов, редкие гудки маневровых тепловозов, раскаты грома, как копошащихся под полом змей, которые нападают на мышей и поедают их.
Теперь Феофания разговаривала только сама с собой, это походило на просветленный бред, потому как, по ее словам, она многое вспомнила – особенно про пожар, про огонь, про ад, про духоту, но не про родителей, изредка позволяла себе даже веселье, которого Вера боялась больше всего, бессмысленного веселья, потустороннего веселья, напоминающего языческие похороны Костромы или купание в источнике. Вера отворачивалась или закрывала лицо полотенцем. Девочка ударяла в ладоши и крутила головой, видимо, ей становилось легче на время.
Последние две недели – чернением по серебру сияние. Тогда участковый врач смахнул со стола лекарства и ушел, а Павел Карлович расстелил простыню на полу и разложил на ней траву – сушиться. Стало тихо, и только сумрачный город с его мертвыми думами таился. Таился. Выл.
– Хорошо, пойдемте домой, – Вера закрыла лицо ладонями.
Потом они долго шли по набережной.
Долго шли молча с речениями, о которых не решались говорить вслух:
«Какой ужасный город сегодня. Я совсем не узнаю его. Это, наверное, совсем другой город и другие улицы, и река другая. Я даже не знаю, люблю ли я его. Скорее всего, ненавижу, как можно ненавидеть всякого свидетеля твоей беспомощности и ничтожности, немого свидетеля. Лучше бы он смеялся, кричал и тыкал в меня пальцами-гвоздями, приговаривая, с трудом переведя дух после сатанинского хохота, – „вот ты опять одна! и нет у тебя никакой дочки!“. Но он молчит, и кажется, что он даже умер, этот город, чтобы лежать растоптанным гниющим бревенчатым настилом, проложенным через болото, вытянувшись в последней судороге, чтобы не дышать полностию, смотреть в небо (сегодня, как ни странно, солнечный день) и сооружать из себя пустые кирпичные цеха заброшенного торфозавода. Трубы. Земляной пол. Лестницы».
Около моста сели в трамвай, шедший на круг. Вагон трясло неимоверно и выворачивало на поворотах. Вера прислонилась лбом к холодному стеклу окна и смотрела в воду каналов под собой. Провода были проложены через черные сырые ущелья домов, а стальные бляхи на стволах орудий водоразборных колонн и газокалильных фонарей повествовали о существующем маршруте в вагонное депо. На остановках в трамвай садились какие-то люди, и Вера вспомнила, как прежде, когда они с мамой только переехали в город, она любила наблюдать пассажиров и воображать себе их житие. Она думала про них, ей была неведомо приятна эта чужая жизнь, которой, в сущности, и не существовало, кроме как в ее, Верином, воображении. Она одна знала здесь все, она могла мысленно преследовать своего избранника, говорить ему страшные слова, уподобляясь всезнающему волхву. В ту пору город состоял для нее из фигур мечтаний, фигур фантазий, фигур неслышной речи – шепота. Вера шептала, прикасаясь губами к уху, к пальцам ли, минуя их решетку: «Наверное, это и есть блаженство, когда я знаю все про тебя. Нет, нет, не говори, что я знаю не все, я знаю, прозреваю даже то, сподоблена такому знанию, которое тебе неведомо. Как хорошо! Как хорошо! Как легко мне!»
Теперь все было иначе. Немец сидел на краю деревянной скамьи и дремал. Он уронил голову на грудь, а на стыках, когда вагон бросало из стороны в сторону, Павла Карловича опрокидывало, и Вере, она сама не понимала почему, становилось противно смотреть на это бездыханное, колышущееся по воле рычагов тело. Немец побледнел, видимо, его укачало в пути и теперь тошнило.
На остановке около морской церкви в вагон вошли военные: сразу же запахло табаком, дегтярным мылом, которое продавали в низкой фанерной будке при входе в бани гвардейского экипажа, и крепкими, как бадьи для угля, кирзовыми сапогами, натертыми самоваренным гуталином. Трамвай дернуло в очередной раз, и фуражка Немца оказалась на полу, притом что Павел Карлович сразу же очнулся и принялся беспомощно, очевидно, оставаясь в забытьи, трогать себя, обнаруживая смятенным и опухшим ото сна. Военные заулыбались и отвернулись, возвращаясь к прерванной беседе. Вера смотрела – за окном город то исчезал, то громоздился над нефтяными бездонными плесами проток, вдоль путей были свалены шпалы. Все двигалось назад.
Проезжали через площадь. Здесь стояли военные грузовики и тяжелые санитарные подводы перед отправкой на фронт. Вдоль деревянных, обмазанных маслом лафетов прогуливались офицеры, курили, вытирали носовыми платками с вышитым в углу вензелем «ИС.ХС.» скошенные затылки. Тут же, расставив треногу своего деревянного ящика и укрывшись черным фланелевым сукном, полковой капеллан фотографировал сияющих золотом канониров на фоне колес, полевых кухонь, разносчиков сена, припрятанных ко всякому случаю рельсов и конских хвостов на медных, начищенных бузиной касках кирасиров.
Павел Карлович забрался под сиденье и обнаружил там свою фуражку. «Вот забылся в нечаянности», – проговорил он со смущением.
Нечаянная Радость.
Нечаянное узнавание (только в другом направлении движения), когда трамвай, разворачиваясь на кругу, шел через весь город на острова к заливу.
Раньше школа находилась в старом запущенном парке – через несколько лет ее закроют по причине ремонта и затопления цокольного этажа, а учеников переведут в здание бывшего ремесленного училища неподалеку от причала. Занятия в островной школе начинались в половине девятого утра. Павел Карлович шел пешком через парк от автобусной остановки, здоровался по пути с рыбаками, сидевшими на гранитных ступенях, уходивших в воду, погружавшихся. Лудах.
Перед началом уроков в школьном дворе происходило построение, перекличка, а затем – развод на занятия. Опоздавших и отсутствующих без уважительной причины, разумеется, разыскивали дежурные и приводили к коменданту, сидевшему в отдельном, крашенном зеленой краской кирпичном гараже, где и наказывали суточной работой на мазуте и дровах.
Павел Карлович не любил учеников, потому что боялся их. Они нехотя приходили на его уроки, развешивали синие, потершиеся на локтях кителя на спинках стульев, снимали сапоги или ботинки, перепутанные рваной упряжью шнуровки, долго надрывно кашляли, многие из них страдали легкими, доставали из ременной перевязи засаленные растрепанные учебники, названия которых и прочесть-то было невозможно, и погружались в хриплый сон.