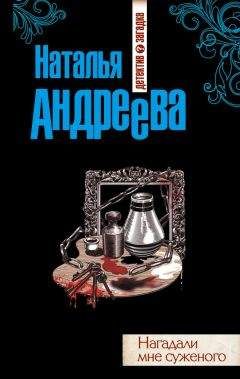Максим Гуреев - Покоритель орнамента (сборник)
Всадники въезжают в город…
На следующий день вернулись Вера и Феофания. «Мама-Вера, отвези меня обратно в интернат, – просила девочка. – Мне здесь очень плохо. Я уже ничего не помню, я уже все забыла». – «А тебе, детка, ничего и не надо помнить», – Вера грела Феофанию горячим воспаленным дыханием, целовала ее, покусывала за тонкие неподвижные пальцы. Какая же у нее, право, непохожая, невидимая, нерождаемая, неодинаковая, неисповедимая, невечерняя, вечная жизнь. Потом Вера доставала из шкафа маленькое ситцевое платье и говорила: «Вот смотри, девочка моя, это платье мне сшила моя мама очень давно».
– Какая мама? Чья мама?
– Ну моя же и мама! Нет тут ничего удивительного, когда я еще была девочкой и училась, кажется, дай Бог памяти, в третьем классе. А теперь вот ты будешь носить – тебе нравится?
– Нет.
– Почему? Посмотри повнимательнее, ведь оно с лентами и бусами, цветами и кружевами, ягодами и листьями. Когда ты его наденешь, так сразу и выздоровеешь.
– Нет.
– Что «нет»?
– Не выздоровлю…
– А вот и выздоровеешь!
– Не выздоровлю, потому что не надену никогда – оно с мертвого, а я сама скоро умру, я знаю, знаю, мне ребята в интернате говорили. Они говорили: «Вот тебя не берут в эвакуацию, не везут, значит, ты скоро умрешь, потому что зачем же тебя везти, если ты и так умрешь, лучше уж здесь, чем там, ведь там холодно, и прежде чем копать землю, ее надо отогревать разложенными из шпал кострами. Вот». Так и говорили, и смеялись. Они глупые.
– Не смей! – Вера бросала платье на пол. – Не смей! Ну хочешь, я сейчас буду представлять стражника, завернутого в проросшую еловыми ветвями плащ-палатку, кирасира в стальном шлеме или наездника, благовествующего, что эшелон разбомбили по пути совершенно, и все погибли, и деревья сварились в кипятке, исшедшем из разорванного взрывом котла паровоза. Хочешь? Хочешь, я так скажу?
– Нет, не хочу.
– Что же мне сделать для тебя? Я буду повторять твое имя – Феофания, Феофания – как молитву, прося у него, у имени, прощения и спасения, богохульствуя и содрогаясь притом. Я пойду на кухню и отрублю себе полуостров между большим и указательным пальцами. Я разломаю икону, оставшуюся от матери, найду бумажные образки, я-то уж знаю, где их прячет Павел Карлович в тайнике за буфетом, и разорву их, нет, лучше сожгу. Буду бежать по набережной, душить себя косынкой (может быть, это ветер меня привечает?), кричать, что я ненавижу Бога, просто ненавижу, что он умер, понимаешь, «сдох», забыв о тебе, а обо мне-то он и не помнил никогда. Потом упаду, потому как внутрь меня провалится камень и раздавит все мои внутренности.
Камень наказания.
Выслушав рассказ Веры о поездке на источник Параклит, участковый врач, заходивший в последнее время довольно часто по собственному почину, просто так, зная, что его ждут, как исповедника, и в нем нуждаются, как в колодце, сообщил:
– В высшей степени рекомендую почитать «Древо – полезные советы», «Аптеку духовную», «О добрых друзьях двенадцати», опять же «Лавсаик, или Повествование о житии святых и блаженных отец наших».
Феофания испуганно следила за доктором. Он заглядывал в реликварий, укутывал жертвенники тулупами, отворял двери, а обнаружив в одной из комнат Немца, изумился несказанно: «А это еще кто у нас такой?» Вера засуетилась, потому что внезапный визит отвлек Павла Карловича от чтения, запричитала всяческие возможные извинения и поволокла врача на кухню. Тут она усадила его за стол, он же, закурив, сообщил Нечто, но женщина не расслышала его, из комнаты донесся голос девочки: «Мама, мама – Вера, Надежда, Любовь, увези меня отсюда, мне здесь очень плохо. Я хочу ехать по полю, а потом по лесу. И еще вот! Я вспомнила!» Вера вздрогнула:
– Что ты вспомнила?
– В лесу кто-то жил, выглядывал из-за стволов, покусывал кору деревьев, оставляя на ней мокрые, сочившиеся сочивом следы. Коливо приготовили, покушали его, и стало сладко на губах. С ячменем. С солью. По поваленным вдоль колеи гниющим бревнам-валежинам расхаживали птицы, наклоняли головы и прятали их под крыльями, грели горячие клювы-камеи. Они наверное знали о своей добыче, в смысле жертве, предуготованной для страшных недр препараторской, разделочной, ямы, земляной тюрьмы для хранения хлорки, бывшей больничной церкви, переоборудованной в морг, где включают свет и выключают, включают и выключают.
– Так кто же в лесу-то жил?
– Тайнозритель и жил.
– Кто?
– Тогда вечером я долго не хотела ложиться спать, капризничала, и отец наказал меня, закрыв на ключ в небольшой, пустовавшей в то время комнате соседей.
– Зачем, зачем, ответь, ты это вспоминаешь? – спрашивала Вера. – Ведь все это давно прошло, а может быть, ты даже это и выдумала себе.
– Так вот, отец постучал напоследок в стену кулаком и прокричал, чтобы я слышала: «Вот смотри, мать, какая у нас дочь непослушная! Ты стараешься, выбиваешься из сил, стираешь на нее (я услышала, как мама поставила на плиту вариться чан с бельем), а она, негодная девчонка, изволит, видишь ли, свой нрав показывать! Пускай в темной комнате посидит! Будет знать, как отца с матерью не слушать!» И мне вдруг стало обидно и томительно гордо оттого, что я теперь совершенно одна, как будто родители бросили меня, отказались от меня и заточили меня в темницу, что само по себе медленно-медленно. Я подумала, что сейчас усну, а когда проснусь в тихое солнечное утро, все будет по-другому. Усну, чтобы они простили меня, а я – их, да, да, я – их, ведь это так важно, в смысле полностью забыла бы это представление в пустой темной комнате, полностью покаялась. Что здесь было? Тени деревьев и кустов шевелились на потолке, путешествовали по потолку, а по стенам ползала саранча. Потом мне приснился столетний дед. Он заглядывал в окно и, постукивая сухим стеариновым пальцем в стекло, говорил:
– Я – столетний дед. Ты узнала меня?
– Да, я помню тебя.
– Ты не боишься меня?
– Нет, не боюсь, потому что ты добрый, у тебя глаза добрые, а в бороде водятся муравьи. Почему ты стоишь на улице и не заходишь в дом?
– Потому что я босой, – улыбался в ответ столетний дед.
– Скажи, это ты живешь в лесу? (Феофания снимает туфли и босиком подходит к окну.)
– Я.
– Ты живой?
– Да. И ты будешь всегда живой, не бойся ничего. – Старик кланялся и уходил через длинный, мощенный путиловской плитой мраморный курзал в поле, и шел по полю.
А потом произошло то, о чем теперь вспоминают в поселке. Девочка проснулась от страшного грохота, наверное, так гремят чугунные колонны в аду, и весь дом был ад, где во время пожара рушились балки перекрытий, пол кадил густым ватным дымом, доски трещали.
Девочка слышала голоса, вернее, страшные крики ослепления лютым овчаром по имени Берендий. Это кричала мама, это кричала Богородица, а студеный ветер разносил ее стоны по округе, ее было слышно даже у паромной переправы и дальнего гарнизона. Стражники выходили в ночь, слушали звон льда и говорили, что «Она взалкала». Отец так и не проснулся. Однако девочку удалось спасти. Ее вынесли завернутой в тлеющее одеяло, а потом поливали водой из чанов, совершенно забыв притом, что на улице зима, а она шептала: «Я пролилась как вода, и все кости мои рассыпались».
Часть 7. Цветение
Вот все и кончилось.
Когда возвращал ись со Смоленского кладбища, Павел Карлович попросил подождать его, а сам побежал смотреть, дают ли теперь на линиях кипяток, но вернулся расстроенным, развел руками: «Нет, не дают».
Раньше за водой приезжали на санях пожарники: по снегу, по песку ли, по берегу. Поливальщики и уборщики с островных дач и доходных домов, напротив, приходили пешком. При помощи ручных канистр они наполняли водопойки с их каменными – вариант – чугунными раковинами.
Подходили мохнатые низкорослые лошади-тяжеловозы.
– Однажды, когда мы гуляли с Феофанией в районе шкиперских проток, мы встретили блаженную Ксению, столь неожиданно, столь неожиданно, – проговорил Павел Карлович, – и Феофания сразу узнала ее, такую маленькую беззубую девочку в мужском платье, что жила в серебряном дупле, на скамье перед которым спали уставшие странники. Они приходили сюда, на Смоленское кладбище, собирались вокруг часовни, а страшный город с его мертвыми таился за деревьями и выл. Тогда, к слову сказать, кладбище было уже разорено и в усыпальницах ночью жгли костры, пользуя рваные газеты и фанерные ящики для временного жилья. Признаюсь, я ожидал увидеть в глубине реликвария старицу, но Феофания дернула меня за руку и засмеялась: «Да нет же, вот она какая, только беззубая, чтобы нельзя было ими скрежетать во сне от боли и пугать добрых-добрых!» – «Ах вот оно что! Как, однако, все просто!» Вера кивнула в ответ:
– Прошу вас, не надо больше ничего говорить мне о ней, я ведь даже и не жила все это время, а болела ею, тем, как она дышит, как не узнает меня или делает вид, что не узнает, как закрывает глаза, как спит, как днем бредит, а ночью слушает звук луны, как умирает невыносимо долго. И вот теперь все кончилось. Помните, как она говорила, что после пожара у нее не стало родителей, в том смысле, что их и не было никогда, ведь так могут говорить только маленькие блаженные дети, – Вера остановилась, – впрочем, вы не знали этого, у меня уже все перепуталось в голове, просто не могли знать, потому как разговор об этом происходил в больнице, откуда я забирала Феофанию.