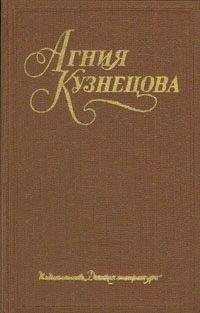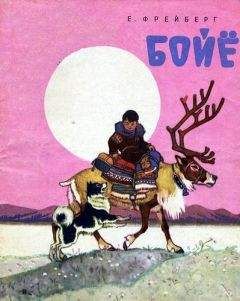Евгений Орел - Баклан Свекольный
– Да вы не обижайтесь, пацаны, я и сам хохол.
Бакланов не удержался:
– Это ты хохол! А мы – украинцы!
По строю прокатилась волна не то смеха, не то мужицкого гогота.
Федя впервые почувствовал себя украинцем. И не потому, что таким был в душе, и уж не по указке свыше, а просто – из принципа. Не терпел он всякие дразнилки вроде жидов, кацапов, хохлов, чурок – хоть и считал про себя: «Какой из меня украинец? Седьмая вода на киселе».
Сержант приблизился угрожающе медленной походкой. Тень жуткого недовольства и крайнего удивления пробежала по его гадкой физиономии. Он даже немного ссутулился, глаза прищурились, будто перед ним не новобранец Бакланов, а вредная муха, по которой так и тянет хлопнуть не то ляпачкой [18] , не то тапкой.
– Ты чё, дружок, такой обидчивый? – снова осклабился сверхсрочник.
– Я тебе не дружок, – парировал фамильярность дерзкий новобранец. – Ты не имеешь права оскорблять и унижать людей! В том числе и по их национальности! И никто не имеет права!
На последней фразе Фёдор зыркнул на старлея, заметившего неладное и уже направлявшегося к спорщикам.
– Ты как разговариваешь со старшим по званию?! – сержант прикрикнул на бунтовщика, выпрямляя спину, чем показал, что ростом выше Бакланова почти на голову.
– Ой, не могу! Поглядите-ка на этого старшoго, понимаешь ли! – под общее приглушённое хихиканье язвил Фёдор, глядя снизу вверх на здоровенного детину. – Ты ж такой, как мы! Только окацапился тут в Москве!
Строй одобрительно загудел в пользу Бакланова. Сержант опешил. Придя в себя от нежданной прыти новобранца, он вложил в ответ столько жёлчи, что хватило бы на пятерых:
– Знаете, юноша, примите мои сочувствия: тяжело вам будет служить.
«Примите мои сочувствия?? – отметил про себя Фёдор. – Хм-гм, как для «куска», [19] довольно круто сказано».
Он уж собрался ответить классическим «служить бы рад, прислуживаться тошно», да передумал, сочтя эту максиму заезженной. Вместо неё Федя выдал импровиз:
– А я не прислуга, чтобы таким, как ты, служить!
Спор остановил подошедший старший лейтенант:
– Так, ну-ка хватит тут разговоры разговаривать! Бакланов, стоишь в строю – вот и нечего языком ляпать. А то схватишь пять суток ареста…
– Не имеете права! – перебил Фёдор. – Я присягу ещё не принял! И мы с вами брудершафт не пили, так что не «тыкайте» мне.
Бакланов не унимался, так и нарываясь на конфликт.
Старлей решил дискуссию не заострять: времени в обрез, а надо ещё успеть на Ярославский вокзал. Он обратился к сверхсрочнику, жестом уводя его в сторону:
– Товарищ сержант, отойдёмте-ка на минутку.
Последним, что услышали призывники, было:
– Вы тут неправы. И почему шинель у вас расстёгнута? Что за пример вы показываете?»
– Виноват, та-арищ старшлейтенант! – Сержант вытянулся по стойке «смирно», торопливо застёгиваясь.
– Ладно, вольно, – добродушно молвил старлей. – Конечно, виноват! Ребята приехали из Украины, из Киева, в столицу нашей Родины, а вы встречаете их такими словами…
Дальше разговор проходил вполголоса: зачем перед новобранцами выставлять конфликты внутри командования? Со стороны это выглядело забавно: малорослый старший лейтенант ровным тоном вычитывал громадного сержанта-сверхсрочника. Последний во всё время разборки так и простоял по стойке «смирно», изредка отвечая на словесный поток старшего по званию. По губам читалось только «никак нет» и «так точно».
Нахлобучка закончилась, и старлей приказал ребятам перестроиться в колонну по четыре. Дальше – «равняйсь-смирно», «напра-а…во!», «шаго-о-ом… марш!» – и Федя вместе с будущими однокашниками зашагал к вокзалу. По предписанию добираться следовало до учебной воинской части в пределах московского округа. Шли строем, покуда ещё не очень строевым шагом.
Проходя через ворота на выходе из пересыльного, Федя безошибочно узнал голос пославшего ему вдогонку – «Ну, попадись только мне!» Ответа не последовало: в строю разговаривать не положено.
* * *...1988 г.
Случалось и по-другому, с точностью до наоборот.
После института Федю по распределению направили в небольшой городок на Полтавщине. В районном хлебокомбинате он продержался экономистом почти год. Не вынесши провинциальных нравов, правдами-неправдами получил открепление и перебрался домой, в столицу.
В городке Федю прозвали уже не хохлом, а… «кацапиком» и даже, как ни странно – «бандеровцем». Почему? Да потому что он не терпел «суржика» и говорил либо по-русски, либо по-украински. Местные же «балакали» на том пресловутом суррогатном наречии, хотя и считали его украинским языком. В их восприятии Бакланов казался если не инопланетянином, то уж явным чужаком. И если он говорил чисто по-русски, да ещё с московским «аканием», его принимали за «москаля», «кацапа». Стоило же перейти на украинский – ярлык менялся на «западенца» и даже «бандеровца». Последнее Федю обижало в особенности.
* * *...1985 г.
Скандальный инцидент случился у Бакланова в пору студенчества, о чём ещё много лет вспоминали в его альма-матер. Случай имел не только национальный, но и политический аспект.
На вечеринке с участием иностранных студентов во время фуршета местный преподаватель случайно задел рукавом пиджака фужер с вином. Посудина опрокинулась на бок.
– Ой! Ай! О, господи! – смутился виновник происшествия.
Пока он извинялся, по скатерти медленно расползалось красное пятно. Сконфуженный профессор кинулся хватать салфетки да вымачивать, чтобы хоть на пол не накапало.
Вокруг сделали вид, будто ничего не случилось, и только двое немецких студентов брезгливо поморщились. В одном из них, похоже, взыграла генетическая память и он другому на ухо:
– Руссишеc швайн. [20]
И хотя на тот момент с окончания войны минуло сорок лет, советским гражданам всех поколений не требовалось изучать немецкий, чтобы знать эту расхожую фразу времён оккупации.
Федор находился ближе всех. Не вдаваясь в уточнения, он с разворота вмазал немцу по роже так, что тот и опрокинулся. Желая удержаться, чтобы не плюхнуться спиной на пол, студент ухватился за край стола. Под руку попало оливье. Шикарное блюдо с традиционным салатом жалостливо чвакнуло об пол, став больше похожим на результат пьяного обжорства, чем на яство.
В генеалогии Бакланова русских корней не наблюдалось, и он это прекрасно знал. Но кому из советских не ведомо, что «руссишес швайн» – это не домашнее животное, а нацистское прозвище для жителей оккупированных земель? Советских земель, а не только русских!
Сдачи не последовало. Второй немец не вступился за товарища и только трусливо орал:
– Вас ист дас? Вас ист лос? [21]
Пострадавший едва не потерял сознание. В кровь разбитый нос, выбитые верхние резцы не оставляли сомнений, что поединок завершён. Федя еле сдерживался, чтобы не броситься на обидчика да не добить его ногами. Но поверженный лежачий соперник – лицо неприкосновенное. «Пускай только встанет, – думал Фёдор, – я эту падлу разделаю, как тушку». Вслух же Бакланов не говорил и даже не кричал – он буйствовал:
– Немчура хренова! Фриц поганый!
– Вас ист дас? – всё ещё визжал второй немец.
– Шо ты васькаешь? – Фёдора, казалось, не остановить. – Я тя щас так васькну!
Он едва не набросился на второго «фрица» с кулаками, но с десяток подоспевших крепких рук удержали Федю от углубления конфликта, к тому же международного. Его уже уводили с места событий, а он всё выкрикивал:
– Фрицы ё…ные! Козлы! Фашистяки! Мало вам хари начистили в сорок пятом! Надо было вырезать к едрене фене всё ваше чёртово отродье!
Дело приобрело политическую окраску и попало на контроль в горком партии. В ход расследования, кроме милиции, подключилось и КГБ с чётким указанием найти виновника скандала. И непременно из советских, дабы не обиделись друзья из ГДР, [22] собратья по соцлагерю. [23]
«Объективность» расследования сводилась к тому, чтобы виноватым сделать именно Бакланова. Якобы тот спьяну затеял потасовку с гражданином иностранной державы. Да не просто потасовку, а реальную драку с тяжёлыми последствиями – сломанная переносица «гитлер-югенда», опоздавшего родиться лет на шестьдесят.
Федю допрашивали в разных кабинетах. Наручники почти не снимали, как с особо опасного преступника. Задавали дурацкие вопросы. Одному следаку, молодому и не очень умному, всё не терпелось понять, что побудило Федю вступиться за русских, если сам он… украинец (?!). Так записали в деле, хотя на вопрос о национальности Бакланов непременно отвечал: «Это никого не касается» или «Это моё сугубо личное дело».
За дерзости его и в карцер бросали, даже грозились вернусь дело в милицию, чтобы подсунуть Федю к уголовникам с малявой [24] про статью об изнасиловании. Ни карцер, ни угрозы не действовали.