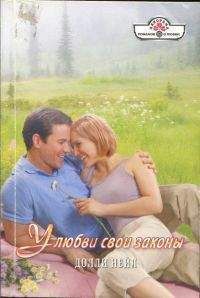Марк Берколайко - Фарватер
Она благодарно принимала от Бучнева ежемесячную вполне приятную сумму за удобную постель с удобной собою, так что были они друг другу совсем не в тягость. Правда, предварительно оговорила, что ежели Георгию захочется жениться или, того обиднее, сменить адрес посещений, то выплатит он ей, брошенке, значительную сумму – за те два года, что она вынуждена будет провести в слезах и печали…
Нет, плакать меньше, чем два года, – никак не получится, поскольку натура у нее привязчивая. Да и вообще, чтобы знал, как это накладно – от добра добра искать.
Но вскоре она искренне к нему привязалась, даже иногда вознамеривалась быть еще полезнее.
– Мужчинка, – и поигрывала бровками, давая понять, что только «хохмы ради» называет такого громадину так уменьшительно, – зачем тебе деньги на прачек тратить? Заносил бы бельишко мне, я б за спасибо справлялась. Полоскала бы твою рубаху и воображала, что это ты лишний разок забежал, только не на кровати кувыркаешься, а в корыте. Обхохочешься! – и бровки располагались параллельно губкам, растянувшимся в широкой улыбке.
Георгий благодарил, но дабы не возникли вдруг в Людочкином воображении матримониальные мечты, неизменно прибавлял:
– Не стоит тебе, Люшечка, перетруждаться. Лучше живи долго, чтобы часа за три до смерти смог я на часок к тебе забежать.
…К слову, на следующий день после первого визита к Регине Бучнев – вне расписания – к Людочке «забежал» и был сверх обыкновенного и как-то зло страстен. Чем немало удивил.
А уж когда несколькими неделями позже кумушки сообщили хозяйке пансионата, что ее «кавалера» видели с какой-то «разнеможной» дамой, она решила не выжидать – ведь чем раньше о грядущих изменениях знаешь, тем тщательнее к ним готовишься:
– Мужчинка, ты, говорят, на стороне погуливаешь? Неужто жениться задумал?
Георгий ответил, не увиливая:
– Это только для того, чтобы в оперу пойти или там в концерт… Ничего такого, о чем тебе стоит волноваться. К сожалению.
Вот именно это оскорбительное «к сожалению» и заставило Людочку поверить.
Больно уж хотелось поверить!.. Хотя с муженьком когда-то ой как обожглась! Много чего наобещал, на руках, например, носить обещал… и носил – но только не ее, а бессчетные штофы водки.
Да и то – не с нею же «мужчинке» по театрам расхаживать. Представила себя среди разряженной публики – не-а, обхохочешься.
…И пошло все как раньше. Единственное огорчало: перестал он сопровождать ее по синематографам, да она и не предлагала – что ж довольствоваться-то таким малым в сравнении с достающимся «разнеможной»! У той небось хватает жемчугов и бриллиантов голые сиськи в театре прикрывать… Эх, жизнь-житуха!..
Но ничего, теперь ходила с дочерью и сыном, покупала им в фойе – как раньше ей самой Георгий – разноцветную сахарную «вату» и во время сеанса частенько поглядывала на своих «малых», озабоченных выбором: следить ли, не отрываясь, за припрыгивающими героями жутко занимательной фильмы или все же отвлечься и набить рты очередной порцией?
И вспоминала, как они посещали синематограф с «мужчинкою», садились в последнем ряду, с краю, чтобы плечи его никому не мешали, и он так же часто на нее поглядывал. Забавлялся небось бровками, сведенными в таких же тяжких, как сейчас у деток, раздумьях… Да и ладно! Ведь не издевался же!
Всего только раз в жизни Георгий изменил своему ласково-покровительственному отношению к женщинам. Отношению, как к миляге-псине, которую хочется приласкать, когда есть настроение, но не грех и отогнать, когда настроения нет.
«Гигиеническому отношению», как он сам его называл, не имея в виду лишь боязнь подхватить болезни, несуразно названные венерическими, хотя следовало бы их припечатать именем разгульного Вакха, а не оскорблять так бездумно богиню любви и красоты.
…В Марселе, после особенно трудных погрузок, Георгий заходил иногда в одну из арабских припортовых таверн, чтобы подкрепиться шаурмой и двумя-тремя чашечками восхитительного кофе. Там однажды за его столик бесцеремонно уселась невысокая, хорошо упитанная особа с буравящим собеседника взглядом и так плотно сжатыми губами, что самые невинные слова, прорываясь сквозь них, обретали неумолимость приговора.
– В ближайшие три ночи свободен? – спросила она без обиняков. – Тогда абонирую. Готова заплатить, но немного.
По ее дистиллированно точному выговору Бучнев понял, что она из России – такое скрупулезное следование грамматическим канонам свойственно лишь изучавшим языки в русских классических гимназиях.
– Я не проституирую, – ответил он. – Но почему именно три ночи? А не всего одна, если нам не понравится? Или тысяча и одна, если придем в восторг?
Она тоже поняла, что он из России, однако, не сговариваясь, на русский они не переходили.
– Можешь мне поверить. – И ее губы явили редкое сочетание суровости и плотоядности. – Этих трех ночей тебе хватит надолго.
Чтобы изучить Бучнева получше, водрузила на существенный нос пенсне – разумеется, такая хищная стерва получает дополнительное удовольствие, разглядывая жертву через что-нибудь, увеличивающее ее, жертвы, размеры.
– Можешь мне поверить, – ответил он на вызов, – тебе тоже будет вполне достаточно.
– Отлично, это то, что надо. Как собираешься восстанавливать силы днем?
– Работая в порту.
– Ты грузчик?
– Стивидор.
– Разве есть разница?
– Существенная… А что будешь делать днем ты?
– Отсыпаться, разумеется. Я в Марселе по случаю, никаких дел нет.
– Где обитаешь постоянно?
– В Лионе. Занимаюсь медициной при университетской клинике.
– А где муж? Скучает по тебе в Лионе?
– Тебя это не должно волновать. Впрочем, я не замужем.
– Где будут протекать наши упоительные ночи?
– Номер 314, отель «Sylvabelle». Знаешь такой?
– Знаю, метрах в девятистах от порта. Очень удобно, смогу после работы забегать ненадолго к себе, это тоже у порта, а потом – в номер 314.
– Зачем забегать «к себе», почему не сразу ко мне? Пользование душем я оплачу.
– Твой альтруизм вполне в духе служения Гиппократу, однако мне удобнее принимать душ у себя. Буду в «Sylvabelle» ровно через два часа, предупреди портье.
…Они так и не узнали имен друг друга, имена оказались не нужны. Уже во время первого, самого соперничающего соития она визжала: «Не смей замирать, животное!», а он отвечал, намеренно не убыстряясь: «Шевелись сама, chienne!» – жаль только, что во французском «chienne» нет звука, способного заменить свистящее «с» во вкусном русском «с-с-сучка!» Так и повелось: «брут» и «шьен» – «животное» и «сучка».
Наутро после третьей ночи она сказала, пытаясь погрузить палец в мышцы, которые он, дразня, напрягал:
– Тебя не пропальпируешь! Хотя, черт побери, будь у меня под рукой вместо скучных анатомических атласов такое красивое животное, я, может быть, осталась бы в медицине.
– А кем стала, не оставшись?
– Общественной деятельницей.
– Борешься за право женщин быть такими же сучками, как ты?
– В том числе… А ты где раньше куролесил?
– Учился на инженера-кораблестроителя, но увлекся цирком. Боролся.
– Ты был борцом в цирке?! Сопел, пыхтел и пускал газы на арене? А истерички впадали в экстаз при виде твоей обтянутой трико мошонки?
– Не угадала. Я был «подставным», выходил на арену в штанах и рубахе навыпуск. Это профессиональные борцы пыхтели и пускали газы, пытаясь взять меня на прием, какой-нибудь «бра рулé» или «тур де бра». А я упирался и потóм, вроде бы случайно, швырял их как котят. Или только упирался – если дирекции требовалось сохранить реноме очередного назначенного ею чемпиона.
– То есть жульничал, мерзавец! Сразу поняла, что ты уголовник, – недаром иногда брал меня так, будто грабишь. Глупое животное, это я тебя ограбила! – и указала туда, где все уже обессилело и, казалось, вымаливало покой. – А что было дальше?
– Дальше все это надоело и захотел стать первоклассным стивидором.
– То есть грузчиком?
– Стивидором, сучка, постарайся усвоить разницу.
– О, да у нас, оказывается, есть гордость карабкающегося наверх пролетария! Зачем мне усваивать детали твоей биографии, животное? Через день я о тебе и не вспомню!
…За все эти ночи они так и не вставили в немногочисленные реплики и многочисленные понукания ни одного русского слова, будто бы не желая обнаруживать ничего общего. Да ведь и не было ничего общего. Ведь не назовешь же «общим» разнообразное использование друг друга и мебели в номере 314 марсельского отеля.
Иногда прогуливались по Николаевскому бульвару или по Пушкинской.
Риночка намеренно высматривала знакомых, раскланивалась и вскидывала голову еще надменнее, не сомневаясь, что зашепчутся и эти… но ничего, «проглотят» – чай, не времена Анны Карениной!
Георгий же целеустремленно смотрел прямо перед собою, хотя кожей чувствовал и восхищенное женское: «Хорош!», и ворчливое мужское: «Хорош, но…»