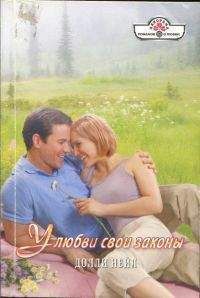Марк Берколайко - Фарватер
– Оттого не верите, что подвергаете его страстность, его тревогу желчному анализу… У вас, как в научном трактате: с одной стороны, с другой… Вы требуете, чтобы у писателя все было дотошно определено, подсчитано, разложено по отсекам… будто он, как и вы сами, – стивидор и вместе с вами очередное судно к плаванию готовит! Даже и не вместе, а под строжайшим вашим присмотром!.. Как так можно?! Честное слово, не любила бы вас, с кулаками бы сейчас набросилась! Откуда у вас такой едкий ум?! Судьба дала?
Бучнев ответил не сразу, понимая, что этот ответ должен сказать о нем все.
– Скорее, я у нее его отвоевал. Чтобы не зависеть от чудес, тайн и авторитетов.
– Вы – ницшеанец?
– Ничуть. Я – Бучнев, донской казак.
– Да в Бога-то верите?
– Да, безусловно.
– А во второе пришествие Христа? Только в настоящее, не такое, как у Карамазова в его «поэме»?
– А вот в это боюсь, Регина Дмитриевна, поверить. Вдруг Ему не Великий инквизитор, а сами же люди, обычные люди, скажут: «Ты вовсе не такой, какому мы молились. Гори!» И живенько натаскают дров и хвороста, а владыки земные, вкупе с попами всех мастей, с неменьшим удовольствием костер подожгут. И все вместе запоют что-нибудь вроде шиллеровского: «Seid umschlungen, Millionen!»[10]… Да и стоит ли надеяться на второе пришествие после ухода из мира так и не понятого Толстого?
– Это он-то пророк? Он – мессия? – проговорила она скептически. – А вот в это я боюсь поверить. Все русские писатели пишут о народе, но для царей. И если цари к ним не прислушиваются, тогда либо в газетах: «Не так живем!», либо в кабаке: «Человек, еще водки! Душа горит!»… Ага, злитесь? Теперь и вам хочется на кулачки!
Георгий засмеялся и положил ее руку себе на локоть… слегка прижав, чтобы не смогла отдернуть.
А она и не собиралась отдергивать.
Но когда они встречались в квартире на четвертом этаже удивительного дома, одновременно казавшегося и летящим, и только-только приземлившимся, – о муже она не вспоминала.
Этот дом без хозяина, хозяином придуманный, выстроенный, но забытый; дом, случайный, как заброшенный шалаш, на который счастливо набредаешь после долгого блуждания по лесу, дарил им часы такого блаженного уединения, что не хотелось говорить. А если и хотелось, то о самом-самом…
– У вас есть женщина?
– Да.
– Кто она?
– Как и я, бывшая цирковая. Вдова с двумя детьми, содержит маленький пансионат.
– Вы для нее – «пароход», судьбой уготованный?
– В какой-то степени.
Замолчали… Но после ужина, за чаем в маленькой гостиной:
– Она вам очень нравится?
– Мне с нею приятно.
– Во всех смыслах?
– Особенно в том, в каком вы мне упрямо отказываете.
– А ей вы приятны тоже особенно в том?
– Уверен.
– А я вот уверена, что она вас любит.
– Это было бы для нее недопустимой роскошью. Она так охвачена стремлением выплыть, что любовь… вряд ли… разве лишь привязанность к обломку мачты, за который удалось зацепиться.
– «Я жду любви, как позднего трамвая, – вдруг заговорила она нараспев, – гляжу во мглу до слез, до боли глаз, творя волшбу, чтоб точка огневая в конце пустынной улицы зажглась. Я жду. В душе – как Млечный Путь в цистерне – лишь отраженья зыблются одни. И грезится, что в сырости вечерней уже скользят прозрачные огни»[11].
– Хорошо! – искренне восхитился Георгий. – Чье это?
– Одного неприкаянного молодого поэта, мелкого клерка в какой-то страховой компании… стеснялся должность назвать, всего стеснялся, даже собственных стихов. Он написал про поздний трамвай за день, как увидел меня на вечере в «Хмеле жизни»… потом говорил, что этими строчками вымолил нашу встречу, обменял ее на будущую славу, и неслыханное для него счастье, что сделка состоялась… Рудольф погубил меня, я – этого поэта, теперь гублю вас, а вы – ту женщину. Почему так? Где во всем этом Бог? И где Он вообще?
Не утешал ее, плачущую, хотя не было ничего проще, чем взять на руки и носить, укачивая… Но кто-то или что-то мешало… Зовется ли этот «кто-то» – Бог? или это «что-то» – Судьба?
Но ведь он, Георгий Николаевич Бучнев, тридцати трех лет от роду, ошибаясь, блуждая, нашел свой фарватер! Тогда при чем здесь Бог и Судьба?..
…Как неуютно от Риночкиного плача, от того, что она говорит.
– …А в промежутках между встречами копил деньги, чтобы снимать лучшие номера в лучших гостиницах, чтобы шампанское было самым дорогим, а я не люблю шампанское… И все всегда было так неловко, нелепо… В последнюю встречу ползал у меня в ногах: «Прошу вас, хоть надежду дайте, что раз в году, только раз в году… я ради этого жить буду… научусь быть мужчиною… ведь больше ни перед кем теперь раздеться не решусь…» Бедный, он надеялся, наверное, на мой опыт… а что у меня за опыт? – как быть нежеланной?!
«Надо убедить, – думал Георгий, – что моего опыта хватит на двоих, весь пригодится, даже опыт непотребства с сучкою. Убедить, что она – самая желанная на свете, что стану бешено ее ревновать, потому что она для всех – а не для меня только – самая желанная… Буду искать и копить слова, жесты, прикосновения… не спеша, очень терпеливо, ведь время есть, есть бездна времени…»
В конце июня Рина, навестив Павлушку на большефонтанской даче, снятой в складчину с Торобчинскими, вдруг обнаружила, что сын заговорил устоявшимся сочным баритоном, что непрестанно облизывает верхнюю губу, будто увлажняя ее и помогая пробившимся усиками расти бодрее и дружнее.
И тут же нахлынула очередная волна тревожной мнительности, тут же почудилось, что пугающе незнакомый подросток – уже не ее, будто он только и мечтает оказаться в объятиях других, по-другому ласковых рук.
Наблюдая, как он мелькает среди верхних ветвей раскидистого черешневого дерева, как отважно тянется за самыми заветными плодами, не обращая внимания на возмущенные крики ласточек и нектарниц, чувствовала, что почему-то за него не страшно. Это ощущение, будто ничего дурного с ним не случится, радовало: кажется, она вырастила мужественного и жизнеспособного Соловьева, а вовсе не изнеженного Сантиньева! Но и печалило – отныне он все сможет сам: и пищу добыть, и свой художественный талант утвердить… А тогда зачем жить ей?
…Павлу было вольготно среди густой зелени, укрывавшей от солнца его обгоревшее лицо. Правда, какой-нибудь особо пронырливый солнечный луч изредка умудрялся поставить на пламенеющую кожу дьявольски припекающий горчичник, но эти укусы боли понуждали его становиться еще стремительнее и точнее. Таким, каким был незадолго до переезда на дачу, когда мамуля с Георгием Николаевичем гуляли, а он, касаясь тела Ганны, изучал особенно волнующие страницы стыренного из мастерской отца анатомического атласа. «Печень…» – и палец слегка погружался в рыхлый живот кухарки. «А где же у нас селезенка?.. Вот она, слева… Та-а-к, дальше… Здесь… – И глаза, елико возможно, скашивались на условную женскую фигуру с разноцветными пятнами и извивами внутренних органов; палец же еще глубже вдавливался в совсем не условную плоть, горячую даже сквозь юбки. – Здесь, Ганна, твоя матка». «Яка така матка? – хихикала кухарка. – Мати моя у Вiнницi живе… Ой, панич, лоскотно!»[12]
И почувствовав, какими властными могут быть его прикосновения, он перестал стесняться своих неловких и слабых рук, отчего они сразу стали ловчее и сильнее – и потому так податливы сейчас были созревшие черешенки-черкешенки.
…Однако спрыгнув на землю и увидев, как грустна мать, Павлушка протянул ей наполненную корзинку и сказал, словно отрекаясь от недавно обретенной независимости:
– Все тебе, мамуля!
И вмиг стал ее, опять только ее. Трогательным в своей немного трусоватой деликатности – как в детстве, когда падал, спотыкаясь об очередной коварный порожек, и говорил ему, едва сдерживая слезы: «Извините, пожалуйста!»
На пляже мало кто просто отлеживался в шезлонге, зато у купальных фургонов толпились[13]. Господа всех возрастов разглядывали еще смелее в этом сезоне обнажившиеся ножки; дамы же и девицы дружно этого не замечали.
Однако Риночка, поплавав немного с Павлушками, переодевшись в сухой купальник из жатой шерсти и расположившись в шезлонге, одобрительные мужские взгляды отмечала не без удовольствия. То, что этих самодовольных самцов следует презирать, как это довольно громко делает сейчас Люси, отошло на второй план. На первом же оказалось приятное осознание того, что бучневское обожание сделало ее чуть более… как бы это сказать поприличнее… лакомой…
Слыша сквозь дремоту гневные филиппики подруги, она лениво досадовала на российскую склонность к «аб-б-бличениям» по любому поводу или вообще без оного. Ну, положа руку на сердце: разве не естественно мужчинам любоваться достойным того женским телом? Разве это проявление именно русской бесцеремонности? Возможно, британский джентльмен рыцарственно отвернулся бы от оголенных ног соседки-леди, но ведь отвернулся бы в тайной надежде заприметить еще более оголенные ноги другой леди, не совсем соседки…