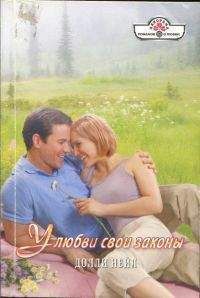Марк Берколайко - Фарватер
– Нет! Не хочу представлять, что бы из «Дон Жуана» при таком нонсенсе получилось. Моцарт так хорошо его сочинил, потому что певицей был увлечен, а не ее мужем-пивоваром!
– Георгий Николаевич, миленький, при чем тут музыка? Я-то имею в виду треугольник неестественный… Понятно, надеюсь?
– Простите, нет!
Обманывал. Себя, в основном. Уж очень не хотелось понимать, спокойнее было заслониться простодушием.
– Ну, если так, сейчас решусь. Это как в холодное море… ничего, не простужусь, чай, не после жаркого солнышка ныряю… Все, решаюсь: Рудольфа привлекала вовсе не я. Он тянулся к моему отцу.
«Дождался? – упрекнул себя Бучнев. – Будешь и дальше на непонимание ссылаться? Или встанешь, наконец, подхватишь одной рукой ее, второй – Павла, и прочь отсюда?.. Да, а еще Ганну прихвачу, – подсказала житейская сметливость, – уж очень вкусно стряпает!»
А вслух постановил:
– Низость все это, Регина Дмитриевна! Отвратительно слышать, а потому…
– Вот оно что… – пробормотала она. – Значит, низость и отвратительно?
– Точно так! А потому, говорю я, пора действовать!
– Да как вы смеете!!!
…Опешивший Георгий испытывал совершенно новые для себя ощущения: женские кулачки, сжатые настолько, что пальцы побелели, а обручальное кольцо на фоне этой белизны заблестело прямо-таки издевательски, замелькали перед самым его носом. Можно было бы, конечно, перехватить… но вдруг причинит боль? Нет уж, лучше выждать, потерпеть, зато потом разнести по камешкам весь этот дом, творение выродка Сантиньева… только жильцов загодя предупредить, чтобы успели эвакуироваться!
… – Как вы смеете употреблять слово «низость» в отношении моего отца?! Он ни о чем… неестественном… и помыслить не мог! И я не могла! А Рудольф… Рудольф мать свою за что-то ужасное ненавидел, отца презирал, считал самодовольным, пошлым буржуа… ему в нашей семье увиделось то, ради чего семьи и создаются… он в нас, в отце моем, в его основательности, ясности, спасения искал от чего-то в самом себе ему непонятного… и неприятного! Да, тогда еще неприятного! Мы все трое на ниточках дергались, на нас свалилось огромное, незаслуженное несчастье, а вы!!! – «Мы» и «нас» взывали к сочувствию, зато «вы», с недоговоренным «чужак», хлестнуло Георгия наотмашь. – Вы, не дослушав, припечатали: «низость»! Да к вашему сведению, подобный ригоризм – грех более тяжкий, чем совершаемое Рудольфом в помрачении от тяжкой болезни! Вы, вы… совсем как Люси, но она о самом страшном не знает, с нею я не поделилась, единственному вам вполне доверилась… какая дура!
Она кричала, не слыша себя, но твердо зная, что крик есть пусть слабенькая, но защита их больной семьи не только от бучневского осуждения, но даже и от жалости. Ибо его, бучневской, жалостью они – Павел, Рудольф, она – будут отвержены, отринуты, отделены; ибо прокаженных жалеют лишь после того, как запирают в лепрозории. До того же от них в испуге отшатываются…
– Регина, я любил твоего отца…
Он сказал это, когда они вышли из церкви после поминовения полковника в годовщину его кончины.
– Да, милый, знаю… так и ты стал для него сыном, быть может, самым близким… ведь с Федором и Петром, царствие им небесное, он виделся совсем редко.
– Ты не поняла, Регина, – любил, как должен был любить тебя… впрочем, гораздо сильнее, чем мог бы любить тебя, поскольку вообще не рожден для близости с женщинами. И брак наш в плотском отношении прекращается навсегда.
…Из солнечного сентябрьского дня она, будто бы совершенно нагая, попала в комнату настолько сырую, что влага потекла холодными струйками по вздрагивающему от этих прочерчиваний телу… В непроницаемо темную комнату, заставленную мебелью, – и Рина побрела, выставив руки, ощупывая края, выдвинутые ящики, приотворенные дверцы, подлокотники кресел и спинки стульев с продравшим обивку конским волосом.
…Что это? Да, похоже на спинку кровати в солидной будапештской гостинице, помпезной кровати, на ней она ждала Рудольфа, порядочно труся, однако намереваясь, когда муж уснет, мысленно поведать гимназическим подружкам, что было не так уж и больно… а потом, с легкой душой, тоже соскользнуть в сон. Но Рудольф, ввинтившись под одеяло, – теперь уже общее их одеяло, – не был настойчив, а шептал, поглаживая руку и плечико, что вполне понимает тревоги робкой девушки, что будет подготавливать ее много ночей, пока, наконец, желание отдаться ему не станет столь же жгучим, сколь его желание обладать ею…
…А это что? Похоже на комод в родительской спальне; отец уступил ее вернувшимся из путешествия молодоженам, поскольку сам давно уже, сразу после смерти жены, перебрался в кабинет. Признаться честно, она уже к этому времени совсем истомилась, однако Рудольф все предыдущие ночи шептал, как самоотверженно разделяет ее страх, – и не хватало решимости возразить, что разделять уже, собственно говоря, нечего… Даже сквозь плотно затворенные двери был явственно слышен гулкий храп полковника – недаром же он шутил, что только храпящий звучнее любой канонады может стать настоящим артиллеристом… И в ту ночь не было успокаивающего шепота, а был молниеносный наброс узкого тела, и все случилось быстро, и не успел прозвучать ее приличествующий случаю вскрик, и даже слабое ойканье – не успело…
…Вытянутые руки ничего впереди нащупать не могут, в глазах все темнее… Бедро ударилось об угол трюмо в их одесской спальне, той, в которой муж убеждал ее, что женщина во все время вынашивания и кормления неприкосновенна. И это не казалось ей странным, а сейчас странно острым показался угол трюмо, на самом-то деле бережно скругленный.
…Воздержания? – и едва не упала, споткнувшись о ножку кресла, в котором всегда кормила Павлушку… Однажды муж стоял за спиной, любуясь, как она надеялась, ее грудью и увлеченно сосущим сыном. И вдруг сказал: «Как вы сейчас похожи на Дмитрия Сергеевича – и ты, и он!»…
Как восхитительно неприлично она принадлежала ему тогда, в этом самом кресле… как он бормотал бесновато: «О, что за мýка!», как вторили его мýке ее ликующие стоны, как трóило его муке обиженное кряхтение наспех опущенного в колыбельку Павлушки…
…Но следом за прощальным ощупыванием кресла пришлось вернуться в солнечный день, и хватило только сил спросить:
– Почему ты признался сегодня?
– Неделю назад в одном из домов Петербурга я встретил князя Феликса Ю. Он подошел ко мне и сказал: «Вы, надеюсь, понимаете, что отныне мы – вместе?» – и в ту же секунду я стал, наконец, свободен. От нашего брака, Регина, от необходимости скрывать прежнюю страсть и притворяться, будто нет новой.
– Остановитесь! – решительно сказал Георгий. – Я, каюсь, в сердцах ляпнул глупость, однако не стоит из-за нее горячиться. Так мы с вами далеко зайдем. Не следует туда заходить, там мель, а не фарватер.
И вот ведь казалось, будто крик ее будет рваться долго – но нет, стоило ему чуть возвысить голос, как сразу и кричать стало не нужно: отозвался, значит, дозвалась…
– Жизнь наша, Регина Дмитриевна, одноразовый рейс по морю все более коварному с грузами все более неудобными. Мысль не новая, но для нас с вами – наиглавнейшая. Станьте-ка вы стивидором, опустите все свои тяжкие воспоминания в самые глубокие трюмы да закрепите понадежнее, чтобы никогда больше не смещались и не угрожали опрокинуть. А я, с вашего позволения, капитаном стану, и обещаю, что не уйдем мы с нашего общего фарватера. И начнем плавание сегодня же, откладывать резона нет. Англичанина мы загрузим к полудню, норвежца часам к пяти, стало быть, к шести я за вами, Павлом и Ганной заеду; необходимые вещи к этому времени, пожалуйста, соберите. Заплыв пропущу, есть дело поважнее…
– Погодите! – очнулась Рина. – Вы хотите всех нас куда-то везти. Куда? И зачем?
– Как это – куда? Как – зачем? Да слышали ли вы меня? Повезу пока в дом деда, в Дачный переулок. В три ближайших дня снимем хорошую квартиру, удобно меблированную и поближе к месту, где вы и Павел привыкли жить, а довольно скоро я заработаю денег достаточно для собственного дома. И раньше бы заработал, да не было нужды для себя одного стараться. Кое-какие накопления есть, немалые, в общем, накопления, но на приличествующий вам дом пока, мне кажется, не хватит. Не беда, через год, самое большее два, все осуществим.
– Но так невозможно, я не могу все это оставить, – тихо сказала она, улыбнулась виновато и повела рукой, очерчивая словно бы не пространство квартиры, а больничный коридор. Уныло пустынный коридор, сновать по которому так стремительно, чтобы на спинах трепетали тесемки-завязочки от длинных белых халатов – уже незачем. Да и вообще передвигаться незачем: порошки, микстуры и прикладывание стетоскопов уже никому не помогут, ибо спорая работа патологоанатомов вскоре еще раз подтвердит, что уход в мир иной – всего лишь имманентность пребывания в мире этом.
Георгий всегда считал фразу «внезапно ослабели ноги» писательской выдумкой – с чего бы это им, выносливым, вдруг слабеть? Но после сказанного Риной понял, что не смог бы сейчас подняться из кресла, даже если б и захотел…