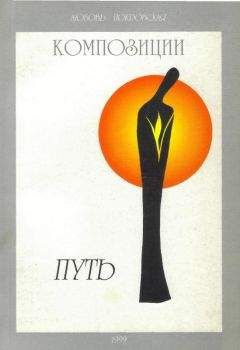Ольга Покровская - Булочник и Весна
Я позвонил ему и сказал, что еду в Москву. Если он не против – могли бы встретиться.
– Вот это классно! – обрадовался он. – Давай прямо ко мне. Я где-то в шесть буду.
С началом сумерек я припарковался в его дворе и вышел на душный от бензина и влаги воздух. Петины окна, крайние на четвёртом этаже, были тёмными, рояль молчал. Зато у подъезда, постелив на мокрую лавку пакет, сидела знакомая личность с косами – Петина бывшая ученица Наташка.
– Здравствуй, Наташ, а где Петр Олегович? – спросил я, не церемонясь.
Она встала передо мной, как перед учителем, и дала захлёбывающийся от робости, но вполне исчерпывающий ответ:
– А он, наверно, в гараже! Мы когда выходили, ему звонила Елена Львовна, и он сказал, что ему ещё надо в гараж, а потом у него встреча.
– Ну а ты чего тут делаешь? – спросил я, должно быть, не слишком вежливо по отношению к такой совсем уже взрослой барышне.
– А мне надо было посоветоваться! Мой педагог говорит, что я неправильно понимаю… А я знаю, что правильно! – со всполохом дерзости проговорила Наташа и подняла на меня серые глаза.
– Ну и как, посоветовались?
Она кивнула.
– А чего сидишь?
– А я потом вспомнила… – начала она было, но вдруг осеклась и, как-то сонно взяв со скамейки пакет с нотами, двинулась вон из двора. Её шаг был нетвёрд – точно как Петин в пору музыки. Она шла зыбко, то понурившись, то, наоборот, запрокидывая голову к небу.
Ругая себя дорогой за неумение общаться с подростками – а ведь скоро и Лиза вырастет! – я направился к гаражам.Старый гараж Петиного отца располагался в тополях над железнодорожной насыпью. Там хранился хлам, который всё-таки было жалко выбросить. Первым делом я различил у въезда машину с поднятым багажником, а затем и её лихого хозяина. Сигарета по-моряцки гуляет в зубах, ветровка измазана маслом.
Завидев меня, Петя прихлопнул багажник и, вытирая ладони тряпкой, шагнул навстречу. Его карие глаза показались мне в тот момент насквозь мандариновыми – изливающими в мир чистейшую радость.
– Ну, я вижу, всё хорошо у тебя? – сказал я, пожимая его ладонь.
У Пети, без сомнения, всё было здорово, о чём он с охотой и доложил мне. Оказывается, ему звонила Ирина, жаловалась, что ей не дали какого-то там благословения, плакала. Из всего этого Петя сделал вывод, что «чувство есть».
– А ты в курсе, у тебя там Наташка у подъезда?
– Наташка? Она ж домой пошла!
– Да вот не пошла. Влюбилась, что ли?
– Ну, может, – пожал плечами Петя.
– А чего не шуганёшь?
– А как я шугану? – возмутился он. – Она талантливая, всё слышит. Это тебе не какой-нибудь Серж! Она, можно сказать, единственный человек, с которым хоть поговорить по душам могу… В смысле, о музыке. И потом, если так, то мы с ней братья по несчастью! – прибавил он лирически и через плечо оглянулся на далёкий двор. Над «букетом» этого взгляда трудился лучший мастер: в нём была и жалость к Наташке, и надежда, что всем повезёт, и главной нотой – безудержная декларация счастья.
Пока мы болтали, голые тополя над гаражами загремели под ветром. Тёплый циклон проезжал по небу, и ветви громыхали, как вагоны. Сумрачно, далеко до весны. Одна толстая тополиная ветка упала на капот.
– Ну здравствуйте! – с душой сказал ей Петя и снял ветку, как котёнка. Пригляделся, что-то ещё смахнул – царапины не было.
– А я вот, видишь, Мотьке твоей должок готовлю! – объяснил он. – Звонила мне тут на днях: всё, говорит, Тузин остался, гони тачку! – Петя вздохнул и с нежностью погладил чёрный бок своей машины. – Из багажника надо было кое-что вытряхнуть. А завтра пригоню ей к театру, ну и оформим – типа продам за рубль! – Он мужественно улыбнулся и пошёл закрывать гараж.
От его слов у меня слегка захватило дух. Судя по тому, что он собрался отдавать Моте выигрыш, Ирина не сказала ему об отъезде Тузина.
– А мне не жалко! – проговорил Петя, с грохотом опуская ворота. – Вообще ничуть! Подарить машину девчонке, симпатичной, талантливой – это, брат, удовольствие. Тем более безо всяких там морально-этических неудобств – я ведь честно проспорил! Так что всё от сердца и без задних мыслей. Кредит только вот выплатил – пусть катается. Или хоть продаст – тоже деньжата!
– Это что же, значит, мне теперь опять на твоём «опеле» ездить, пока новую не купишь? – спросил я, предвкушая, как объявлю новость об отъезде Николая Андреича.
– Да нет… – возразил он и сунул ключи в карман ветровки. – «Опель» мне теперь не помеха. Так и скажу Михал Глебычу, что подарил, – он зауважает… Пройдёмся? – кивнул он вперёд, на ведущую вдоль насыпи тропку.
– А что, отчёт о личном транспорте входит в твои обязанности?
– Зря глумишься! – сказал Петя и, как-то вдруг помрачнев, оглядел окрестности. Темнело, на тропинке между лесом и железной дорогой делалось бесприютно. – Дай сигарету! – попросил он, смяв свою пустую пачку, закурил и задумчиво продолжил: – Я, брат, вчера имел с Пажковым пренеприятнейший разговор. Оказывается, в день нашего с Тёмычем мероприятия у него намечен выезд – гуляем партнёров в честь юбилея холдинга. Пушки, стрельбы, вертолёты! Я, как узнал, сразу к нему, говорю, мол, так и так, хочу предупредить заранее – у меня премьера… Мама дорогая! Что тут началось! Я уж думал, опять до зубов дойдёт. Рвёт и мечет: или отменяй, или дуй из моего бизнеса на все четыре. И так нехорошо вышло. Помнишь, Лёня весной статейку тиснул про его дебош? Ну а я возьми да ляпни: мол, не надо, Михал Глебыч, вымещать на мне старую вражду потому только, что я музыкант! Понимаешь, чёрт меня дёрнул; ляпнул – и пожалел. А Пажков как-то сразу подозрительно сдался. Л, говорит, ну ладно, делай, как знаешь… Даже любопытно, чего мне теперь за это будет? Какой он мне придумает испанский сапог?
Подойдя к самому краю насыпи, Петя присел на корточки и поглядел на рельсы.
– И Тёмушкин тоже… – рассеянно проговорил он. – Звонит мне и давай ныть: мол, не готов, надо перенести. Думаю, уж не профессорша ли моя намутила? Мы ведь играли ей, когда насчёт зала пришли разговаривать. Раскудахталась, своих приволокла… Знаешь, чего я боюсь? – сказал он, склоняясь лицом к далёким рельсам. – Вдруг она вместо меня подсунет Тёмычу кого-нибудь покруче? Помнишь, была ведь уже у неё такая мысль.
Он встал и щелчком швырнул сигарету вниз. Кружась, она упала на рельсы.
– Ага! – усмехнулся Петя. – Анна Каренина!
Я молчал. Моя непроизнесённая новость об отъезде Тузина как-то поблекла.
– А знаешь, наплевать мне! – сказал Петя. – У меня теперь одно дело – Ирину вытащить. Противника знаю в лицо, и это не господин режиссёр, конечно. Это – евангельские истины. Она, бедная, всё греха боится. Я должен её убедить, что всё возьму на себя. У меня, сам знаешь, этого добра – вагон. Одним больше, одним меньше – хуже не станет. Да и потом, мы всё искупим! – и он взглянул на меня, ища подтверждение своему оптимизму. – Мы ведь в любви будем жить, понимаешь? В чистоте! У меня последний раз была такая чистота лет в шесть. Потом начались все эти чёртовы конкурсы – зависть, подлость. Да и, знаешь, мне кажется, двоим всё простят!
Из тёмного неба посыпались первые, не частые ещё капли. Мы сделали круг и вернулись к гаражу.
– Ну чего? По пивку? – бодро предложил Петя. – Или тебе ещё в деревню?
Я вдохнул поглубже. Дальше тянуть было некуда.
– Петь, я думал, Ирина тебе сказала, но, как вижу, нет. Тут вот в чём дело: Тузин вчера уехал в Москву.
– Уехал? – не понял Петя. – В каком смысле?
– Насовсем, если не выгонят. А Ирина с Мишей остались. Так что катайся себе спокойно – Мотька проиграла.
Петя смотрел на меня широко распахнувшимися глазами, пытаясь совладать с информацией. Но ладонь его, опережая разум, уже полезла в карман – туда, где лежали ключи от гаража и машины. Вслед за ключами и сам он дёрнулся.
– Петрович, а марафет? Что, так и поедешь? – сказал я, удерживая его за политый машинным маслом рукав, но моя ирония прошла мимо.Через минуту его джип, свистнув, развернулся и помчался по вспучившемуся асфальту железнодорожной зоны – к шоссе. Я ехал с ним. Моя машина осталась ночевать во дворе у Пети.
Он гнал, как сумасшедший, словно опасаясь, что Ирина без него истает с холма, обернётся ивами по краю просёлка. За каким-то поворотом страж дорог махнул перед нами своей дирижёрской палочкой. «Да пошёл ты!» – сказал Петя, прибавляя газку. Я не стал его вразумлять.
Мы ехали в молчании. По классическому радио, заигравшему, когда я наобум нажал кнопку, шёл двадцатый фортепианный Моцарта, одновременно простой и космический, вихрем взявший под свою опеку всё, что творилось с Петей.
На середине пути Петя резко выключил звук и помертвевшим голосом проговорил:
– У меня там носки на журнальном столике… И бутылки, тоже прямо на виду, всё выбросить хотел. Полный бардак!
– Бардак, Петь, это не самая большая проблема из тех, что ты собираешься ей предложить, – сказал я, вникая не без горечи в далекоидущие планы Пети.