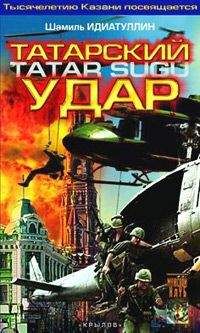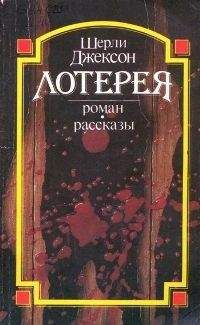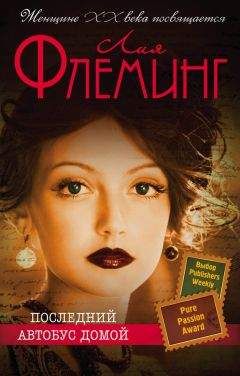Шамиль Идиатуллин - Город Брежнев
На улице было минус тридцать два.
Телефон, как ни странно, работал. Вазых позвонил в управление главного энергетика, потом на ТЭЦ и убедился в том, что рассказ Петрова довольно точен: все всё знают, никто ничего сделать не может.
Вазых положил трубку, подошел к окошку, почти затянувшемуся пушистой коркой, и полюбовался тем, как между криво брошенными жигулятами выдернутых из дома инженеров пробираются две черные «Волги». Он поежился и пошел искать Виталия.
Виталий нашелся недалеко от десятой, где, видимо, и был все это время, скрытый паровой завесой. У раскуроченного трансформатора. Рядом с трансформатором лежали катушки с явными признаками пробоя, почерневший сердечник и клубок спекшихся проводов. Виталий сидел над этим клубком на корточках, разминая грязные пальцы с обломанными ногтями. Он был в рабочей куртке поверх цивильной одежды и чуть трясся – температура в цеху упала до минус десяти. Но не вставал и головы не поднимал, хотя Вазыха заметил явно издалека.
Вазых постоял рядом с ним, рассматривая старательно починенный трансформатор, который, видимо, и стал причиной первого замыкания, вызвавшего веерное отключение всей системы, из-за холодов работавшей с повышенной нагрузкой. В замыкании Виталий явно не был виноват. Но столь же явно он был виноват. Ему сказали не пускать Епифанова к печи, а он пустил. Не пустил бы – не случилось бы аварии. Или случилась бы, но после праздников, в разгар рабочего дня, в условиях, позволяющих ликвидировать любую катастрофу в пятнадцать минут.
Говорить это смысла не было – Виталий и так все понимал. Не дурак же. Хотя дурак, конечно.
Начальство на пороге, вспомнил Вазых и сказал:
– Давай домой, быстро. Нехрен тут делать уже.
Виталий медленно поднял глаза и хотел что-то сказать. Вазых добавил:
– И никому ни слова. Я разберусь. Понял?
Виталий смотрел на него. Вазых переспросил:
– Ты понял?
Виталий медленно кивнул.
– Все, иди.
Виталий с трудом поднялся и побрел в сторону диспетчерской. Ты куда, хотел крикнуть Вазых, но сообразил, что Виталию надо переодеться. Или хотя бы одеться.
Вазых хотел выругаться, но вместо этого сказал ему в спину тоном, приготовленным для мата:
– С Новым годом, Виталий Анатольевич.
Часть восьмая
Январь. На сохранение
1. До чего докатился
– Блин, ну ты едешь, нет? – заорал Саня.
– Ща-ща! – крикнул я, еще раз предложил Таньке встать на общую картонку, ухмыльнулся в ответ ее хихиканью и неторопливо пошел к толпе, переминавшейся на бежевом квадрате и отпускавшей досадливые и гадостные замечания в мой адрес. А за два шага до них ускорился и напрыгнул, сшибая народ с ног, а картонку – с макушки горы. И мы помчались сквозь свист, снег, твердые буераки и колени, вопя, кувыркаясь и гогоча. И все было четко.
А я-то уже думал, впрямь каждый день ближайших двенадцати месяцев будет тусклым и скучным. Потому что известно: как встретишь, так и проведешь.
Такого дурного Нового года не было давно.
Раньше у нас за новогодним столом всегда были гости: родня, соседи, хотя бы Галина Петровна. Два года назад мы и сами сдернули к тете Танзиле с дядей Иреком и у них отметили. Прикольно вышло, хоть и ничего особенного.
В этот раз ждали родню батька, она собиралась, да так и не собралась приехать из Пензы – простыл кто-то сильно. Тетя Танзиля утащила семью в Альметьевск. С соседями мамка вроде успела сойтись, особенно с тетей Валей, но все-таки не так, как на той квартире, там либо тетя Соня с тетей Верой у нас торчали, либо, наоборот, мамка у них. А Галина Петровна, насколько я понял, опять взялась устраивать личную жизнь и отправилась с кавалером встречать праздник на лесную базу отдыха. И нас звала, не слишком настойчиво правда. Лет пять назад я бы ей, наверное, позавидовал: горки, снегокат «Чук и Гек», можно прыгать с крыши крыльца в сугроб, – а сейчас такие возможности совсем что-то не прикалывали. «Чук и Гек» с сугробами я явно перерос, а до взрослого веселья не дорос. Они нахрюкаются и примутся отплясывать дебильные танцы, которые считают молодежными, и петь песни, которые не считают позорными, – а мне что делать?
Хорошо, в общем, что не поехали мы никуда. В лес захочется – до него неспешного ходу минут двадцать. А поскольку в такой мороз неспешно никто не ходит, то в пятнадцать уложишься – или уляжешься, на выбор.
Можно было к кому-нибудь из пацанов отпроситься – но к кому? Не то чтобы я всерьез воспринимал телеги про то, что это семейный праздник и надо сугубо со своими, – но мамку с батьком я всякими знал и ко всяким привык, а все остальные люди планеты Земля были мне знакомы куда хуже, и не было у меня никакого желания наблюдать за тем, как они раскрываются с какой-нибудь неожиданной стороны в момент, когда мне хочется только сонно пялиться в экран.
– И вдвоем нормально встретим, да, Артурик? – спросила мамка, просительно улыбаясь.
– Да ясен перец, – бодро ответил я.
Не понравилась мне такая улыбка. Что она заискивает-то, будто виноватой себя считает? В чем? В том, что батек на работу в самое неподходящее время рванул? В первый раз, что ли?
Я примерно так и сказал, и мамка торопливо закивала. Чтобы развить успех, я добавил:
– Может, он успеет еще. А нет – ну, попозже приедет, какая разница. Это все предрассудки на самом деле – в двенадцать чокаться, в одиннадцать или там в час. Хочешь, с тобой сейчас чокнемся?
Мамка засмеялась и сказала, снова повязывая фартук:
– Мы с тобой давно чокнулись. Чуть попозже, хорошо? Я «зимний» дорежу, пока кино не началось – ты не смотрел, кажется, хорошее, новогоднее такое, «Ирония судьбы», его давно не повторяли, посмотри. А пока с балкона «шубу» и все остальное заноси, а то замерзнет совсем. Оденься только.
– Уй, – сказал я с выражением.
– Не уй, а оденься. Простыть за полминуты можно, холодина же – вон, аж на подоконнике лед.
– А. Мы поэтому на базу не поехали?
– Н-ну, в том числе. А ты хотел, что ли?
– С Галиной Петровной-то? – изумился я. – Не-е.
Мамка обозвала меня бесстыжим. Я пожал плечом и сказал:
– Овчинниковы вон не на базу, а просто так в лесок попрутся. У Лехана старший брат бенгальские огни сделал и такие фейерверки здоровые, типа салютов, выше деревьев летят и взрываются, говорит. Вот так прикольно было бы, а на базу-то – не.
– Ну, со старшим братом я тебе никак не помогу, – отрезала мамка и принялась со стуком рубить вареную колбасу.
– С младшим зато, – буркнул я вполголоса, чтобы буркнуть хоть что-то, и стук прекратился. Мамка осторожно посмотрела на меня и спросила:
– Что зато?
– Ну… – протянул я растерянно. – Не знаю. Я за салатами.
Кино в самом деле оказалось ништяк, не хуже, чем прошлогодние «Чародеи» и «Ищите женщину», а за стол мы сели все-таки втроем. Батек прибежал за полтора часа до боя курантов, черный и непраздничный. Ничего не стал рассказывать, знай ожесточенно рубал да нахваливал салатики, лишь пару раз завис, мрачно уставившись на экран с чем-то праздничным, перед самым боем курантов пробормотал: «Ни Кузнецова теперь, ни Андропова», ловко стрельнул шампанским, чокнулся с нами, вручил мамке французские духи, мне коробку с радиоконструктором – четкая штука, если правильно собрать все детальки, получится настоящий радиоприемник с ладошку величиной, – послушал, улыбаясь через силу, наши радостные вздохи, принял ответные подарки – от мамки одеколон, не французский правда, от меня – эспандер для плеч (а мамке я косынку подарил, шелковую, что ли, – скользкую, в общем), шумно порадовался, тут же обрызгался одеколоном, два раза растянул эспандер, посмотрел пять минут новогоднего «Огонька», зевнул на симфоническом оркестре, поставил нетронутую рюмку с коньяком и пошел спать. Мамка, виновато взглянув на меня, велела долго не сидеть, а потом вынести всю еду на балкон, чтобы не скисла, и убежала за батьком.
Я посмотрел им вслед слегка растерянно, подумал, выключил свет, собрал на диван подушки со всех кресел, устроил себе гнездо и принялся кайфовать под салаты, пельмени, шампанское, колюче гулявшее по горлу с нёбом, и Ширвиндта-Державина с Винокуром. «Огонек» оказался на удивление приличным, хоть, как всегда, с перебором всяких эстрадников с электрогитарами и в расшитых рубашках. Там, кстати, показали Валентину Михайловну Леонтьеву вместе с Филей и Хрюшей – которые, выходит, тоже были либо пособниками ЦРУ, либо ни в чем не виноватыми передовыми ведущими, хоть и неживыми животными.
Я досидел до «Мелодий и ритмов зарубежной эстрады», совсем приободрился, налил себе, воровато косясь на дверь спальни и прислушиваясь, коньячку из початой бутылки и глотнул. Оказалось прикольно и жарко, и дало не в нос, как шампанское, а в глаза – они аж заслезились. Закусил конфеткой, потом апельсинкой из продуктового заказа, выданного мамке на работе, и задремал в одиноком тепле.
Тут задребезжал телефон. Я страшно перепугался, потом расстроился – после полуночи звонили только батьку, и то раза три всего, и всякий раз он срочно одевался, просыпаясь на ходу, выбегал к подъехавшей машине и не появлялся до следующего вечера.