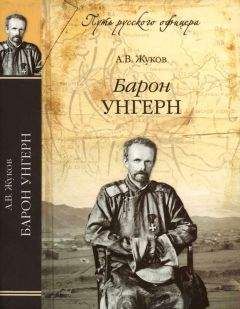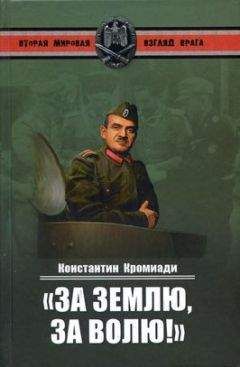Игорь Воеводин - Повелитель монгольского ветра (сборник)
Золотая цепочка свешивалась с пластины и играла на солнце.
– Это пайцза Чингисхана, – прошептал барон. – Тигр обозначает принадлежность к Чингисидам.
– Знаю. Откуда у вас? – продолжил допрос есаул.
– Родовое. А вам-то что, есаул? – возвысил чуть окрепший голос барон.
Тот долго молчал, неподвижно глядя в глаза Унгерну. Потом, расстегнув ворот, что-то снял с шеи и протянул барону. Две одинаковые пайцзы лежали теперь на его ладони, и две цепочки свешивались вниз и покачивались, играя на солнце.
Была тишина.
Муравьи организовали переправу хлебных крошек куда-то в закрома. Белка скрылась. Дятел замер, приглядываясь сверху к золотым зайчикам, скачущим с ладони есаула.
– Господин сотник, ваше благородие, да где же вы?! – прошелестел из ветвей голос санитара.
– Мы братья? – так же в упор глядя на новоприбывшего, спросил Унгерн и поплыл куда-то опять, но плавание не было невозвратным, он почему-то это знал.
3 августа 1241 года, Сплит, Хорватия, 3 часа утра
Еще немного. Еще совсем немного, и день, этот неотвратимый, проклятый богами степей день обрушится на голову Повелителя Вселенной и раздавит его, и погребет под обломками.
Батый знал, что вчера он начал путь к долине смерти. Знал, что сколько бы лет он ни прожил еще, никогда, о боги, боги мои, никогда больше радость не коснется его души, и только тень, тень печали, сумрак тоски, навсегда, навсегда покроют ее, укутают своими призрачными объятиями, и она станет хрупкой и ломкой, совсем прозрачной, невесомой, вся в прожилках страданий и в бороздках забот, словно изморозь на тонком ледке бесконечных луж и переправ на пути его коня утром, утром, когда солнце еще не встало, и ужас предстоящего холодными липкими пальцами трогает душу… Проклятое утро!
Все костры догорели. Стотысячная армия ждала своего командира. Женщины и рабы толпились на холмах – им были дарованы жизнь и свобода.
Батый снял с шеи золотую пластину с изображением тигра – пайцзу, знак высшей власти, знак Чингисида, знак, даровавший неслыханные почести и привилегии ее носителю, но и боль, и тяжесть, опустошающую тяжесть власти.
– Возьми, – протянул он Рите, – и знай – вот здесь, в левом углу, выбита карта моего личного тайника, там, где Итиль впадает в море, и море не знает границ, у древнего кургана, где спят мои воины. Там золота больше, чем нужно миру…
Он замолчал. И не добавил «и совсем не нужно мне…». Рита подняла на него глаза.
– У меня будет сын. – Она смотрела не мигая. – Туунийг сайн яруу най-рагч болно гэж харж байв[21].
– Нет, – спокойно ответил Повелитель Вселенной, – он будет батыром…
Батый повернулся и вышел. Рита не шелохнулась.
И только когда свист и хохот, конский храп и топот застыли вдали, когда перестала содрогаться земля, когда первый луч робкого светила коснулся золотой пики копья, на котором больше не стлалось тяжелыми волнами знамя, она повалилась без чувств на бухарские ковры.
Байартай.
8 июня 1919 года, территория русского (царского) посольства, Пекин, Китай
– Позвольте, принцесса, представить вам русского героя, кумира солдат и казаков и недруга уставов барона Романа Федоровича фон Унгерн-Штернберга! – Первый секретарь посольства, тучный блондин с одышкой и орденом Андрея Первозванного, с улыбкой подвел к принцессе Цзи высокого худощавого есаула в адъютантской форме.
Принцесса подняла голову и натолкнулась взглядом на холодный огонь голубых балтийских глаз барона.
Помедлив, Унгерн поклонился. Но эти несколько секунд промедления, эта почти никем не замеченная пауза, а заметившими отнесенная к природной неучтивости барона, решили все.
Принцесса поднесла руку к запунцовевшей щеке и в замешательстве тронула ее. Затем, опомнившись, протянула ее барону, и он, приняв руку как драгоценность, склонившись, поцеловал кончики белых бальных перчаток.
Шум приема куда-то улетучился. Продолжал что-то тоном с налетом интимности рассказывать граф Шувалов, в лаковых улыбках расплывались придворные – девушка не слышала ничего. Молчал и барон.
Наконец она справилась с волнением и произнесла, указывая на солдатский Георгий на груди барона, единственную награду из всех, которую он носил всегда:
– Насколько я знаю, барон, ваш род – один из старейших в Европе, а солдатский крест дают только избранным офицерам. Какой подвиг вы совершили, барон, сколько стран вы покорили?
– Мои главные победы впереди, моя госпожа, – также на безукоризненном французском ответил офицер.
– Барон, как истинный рыцарь, предпочитает брать бастионы, а не девичьи сердца, – с ноткой ревности обронил Шувалов, ибо почуял интерес китайской принцессы к этому чужаку, неизвестно как оказавшемуся на блестящем рауте. – Да и то, господа, как прикажете быть кавалером, если казаки, по слухам, моются лишь по праздникам?!
Кисло улыбнулись стоявшие в кружок посольские, и, так же лаково лоснясь, продолжала кивать свита принцессы. Кто их разберет, этих варваров-европейцев, с их юмором! Просто нужно улыбаться всем…
Смертельная бледность покрыла щеки барона. В глазах у него потемнело, и знакомое бешенство разлилось по жилам.
– А зачем мыться чаще, граф, – спросил он, не сводя немигающего взгляда с переносицы Шувалова, – если даже сапоги моего вестового чище совести всей придворной челяди?
И, выждав полминуты, он поклонился принцессе и отошел.
Шувалов, хватавший воздух, как рыба, услышал хохот принцессы. Она не могла совладать с собой и звонко смеялась, прикрываясь веером.
– Ненавидит нас… А вы знаете, сударыня, ходят упорные слухи, что он – незаконнорожденный, сравните его лицо с портретом великого князя Михаила Александровича, да они же близнецы-братья… – прошипел граф.
Нет, в несчастливый день пришла в голову графу мысль принять приглашение на этот прием! Да и то сказать, ехал себе в Париж бы и ехал, так счастливо сбежав от большевиков из Даурии, и что толку было так долго сидеть в этом Пекине?! Да уже, господа, скоро изжога случится от всей этой басурманской пищи, parole d’honneur[22]…
Дальше произошло то, что еще долго с ужасом будут вспоминать китайские официальные лица и с восторгом, смакуя детали, передавать из уст в уста эмигранты по всей русской колонии.
…Граф Шувалов, посланный, как шар в лузу, точным ударом в челюсть, пропахал на животе через весь длинный стол яств и остановился в самом конце, угодив лицом в блюдо черной икры. Недоуменно провожали его длинными носами осетры и стерляди, выдергивались, чтобы лучше видеть, пучки редиса из салата, сконфуженно выкипало шампанское Maison Perignon на крахмальных грудях белоснежных манишек под усеянными звездами черными фраками господ дипломатов и сановников.
Ах, какой стол был, господа! Какой забытой роскошью веяло от сервизов с клеймом дома Романовых! Разбились сервизы на паркетном полу… Какой старорежимной важностью были надуты жареные гуси в яблоках, какой покорностью веяло от карпов, какой самодовольной жертвенностью лоснились бока поросят, набитых – о боги, боги мои! – гречневой кашей с рубленым яйцом… Как верноподданно поблескивали из рассола белые грибки, какой строй держали соленые с перчиком и чесноком огурчики, какая гвардейская молодцеватость излучалась маринованными помидорами, от несвойственного им смущения прикрывшимися укропом! Какой бесстыдной, беззаботной негой исполнена была тихоокеанская белобокая жирная сельдь, как искусительно прикрывала она свою манящую наготу кольцами репчатого лука, как, развратно развалясь, плыла она в масле, и как все это рухнуло в небытие, пропало, провалилось, исчезло, растворилось, будто в мареве оморока, под грузным телом так неуклюже пошутившего графа…
О боги мои, боги! Кто сказал тебе, читатель, что нет на свете настоящей любви? Да отрежут лгуну его паршивый язык! За мной, читатель, и только за мной, и я покажу тебе такую любовь.
Туда, в огромную прихожую, где лакеи с полотенцами, чтобы вязать смутьяна, пытаются приступить и взять штурмом есаула, понукаемые грозным рыком мажордома.
Туда, где, раздавая плашмя удары оставленной у швейцара на время раута казацкой шашкой по холуйским физиям, прокладывает себе путь на волю бравый рыцарь, потомок Аттилы и Чингисхана.
Туда, где наградой звенит ему, отражаясь от зеркал и статуй, звонкий смех той, что, забыв этикет и сан, как девчонка, хлопает в ладоши, глядя, как отлетают от воина прилипалы.
Туда, где он, на секунду обернувшись в дверях, бросит ей прощальный взгляд.
И кто бы мог поверить, господа, что в этом взгляде будет смущение?! О боги, боги! Теперь уже так не любят. И так не дерутся. Ужасный век. Ужасные сердца.
29 декабря 1919 года, станция Даурия, КВЖД, Россия
Скрип. Скрип снега под валенками часового. Скрип петель, ржавых, промерзших петель полураспахнутой железной двери выстуженного пакгауза. Скрип. Скрип пеньковой веревки подвешенного над входом в штабной салон-вагон фонаря.