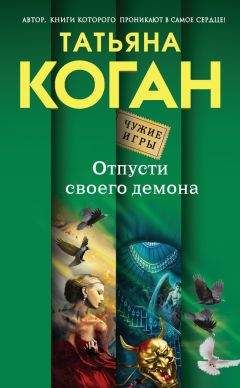Сергей Сергеев-Ценский - Том 2. Произведения 1909-1926
И все замолчали.
Тускнеющие вечерние поля глядели на них в междуизбяные прозоры, их поля, но ведь вчера еще говорили им, чтобы не считали они этих полей своими… И вчера, и неделю назад, и месяц, и два, — изо дня в день… Так что хоть бы и глаза их не глядели уж на эти поля.
Но они смотрели теперь на стариков сами, — вечерние, тускнеющие, свои поля… И много было густой, как запекшаяся смола, тоски в голосе Никиты Фролова, когда он сказал вдруг:
— Загадили нам всю землю, стервецы!.. Ах, загадили, гады!.. Чем мужик жив?.. Землицей мужик жив!.. Что у него еще есть акромя? Ничего у него нету акромя!.. И тою землицу загадили!..
— Вот за то самое их в земь и закопать! — подхватил Матвей Кондратьич.
— Живьем! — добавил Анишин. — Нехай голодают, вроде, как гадюки!
Но не картинно это показалось Евлахову. Поначалу как будут засыпать их, может быть, и покричат немного эти люди, но, засыпанные, задохнутся и замолчат… и земля замолчит… Но она и так молчит… Земля молчалива… Спокон веку молчит земля.
И он сказал:
— Вот, братцы, как надоть… Выкопать такую яму, — связать их рука с рукой, нога с ногой, поставить перед ямой задом, да, стало быть, дать по ним, гадам, залоп!.. Вот и загремят они таким манером в яму… По правилам выходит так…
— Диствительно, по правилам так, — одобрил Патрашкин, но тот, который спорил с ним всю свою жизнь, Анишин Иван, подхватил живо:
— По пра-вилам!.. Нам правилов никаких не надоть… Мы их без правилов должны зничтожить, — понял?..
И всем показалось, что это — правда.
— Опять же вышел у тебя расстрел, — укорил Никита Андрея.
— Ну, а то чего же!.. Патроны чтоб тратить…
— Не гожается… Нет…
Медленно двигались они и медленно думали. Гусак гоготал одиноко и упорно на чьем-то дворе, а куры уж сели… Редеть уж начал порядок изб и темнеть небо, когда из одной избы выскочила девка Феклунька и, не разобрав из-за саманного тына стариков, с размаху уселась возле ворот, подобрав юбку, и прямо к старикам покатился от нее ручей.
— Рас-сох-лась! — строго сказал Матвей Кондратьич, а Никита Фролов, коренной здешний мужик, никуда и никогда из села не выезжавший, уткнул в этот ручей свою герлыгу и сказал разрешенно и найденно:
— Вот!.. Это оно и есть, братцы мои!..
И обвел всех кругом светлым голубым взглядом.
Застыдясь, убежала широкозадая Феклунька в избу, хлопнув истово дверью, а Никита Фролов сказал медленно:
— Вот им что надоть, — слухайте!.. Как они, собаки, над трудом нашим хресьянским, над землицей знущались, будто она не нашим потом-кровью полита, не нам предлежит, а, стало быть, им что ли-ча, то земле их, матушке, и передать живыми: вкопать их в земь по эфтих вот пор (он показал сухую свою, черную, всю из жил и провалов шею), а головы им оставить всем наружи… и бельмами своими пусть на нас лупают… И как они всю жись нашу хресьянскую обгадили, то так чтоб и их обгадить!.. Вот!..
Пожевал беззубым ртом и вновь оглядел всех ясно и найденно.
Постояли недолго старики, представив, как это выйдет, и решили:
— Та-ак!.. Это сказано дело!..
Но вспомнил еще что-то Патрашкин Пров.
— А помните, как межу нам нашу сельскую в башки вбивали?.. Сколько ж это тому, — годов шестьдесят, али помене?.. Мне тогда двенадцать годов было, за других не скажу. Положили нас, мальчишек — девчонок, на межу носом, да та-ак влили по заднице, — бра-ат!.. Ори не ори, — не поможет!.. Это затем, стало быть, чтобы помнили мы на всю жись нашу, игде эта самая межа идеть… Евсевна была тоже… Паранька… Ее Паранькой звали… Рядом со мной ее секли… Ох, и визжала ж девка!.. Ну, опосля нам конхаветов, орехов, жамков всяких, — ешь, не хочу!.. «Будете, — говорят, — межу теперь помнить, сукины коты?» — «Ну, а то, — говорим, — не иначе, как после такой бани забыть нельзя!» А они говорили распахать!.. Межи-то!.. Чтобы ни одной межи нигде… И все, чтобы обчее…
— Это ты к чему? — хотел было повздорить Анишин, но Андрей Кривой сказал:
— Ведь и я помню… И меня ведь тоже!
— Ну да, и ты был… К тому я, — всех робят на это надо скликать, — до сход солнца поднять: помнили чтоб, как в комиссарах ходить.
— Им жить, не нам… Это ты, диствительно, правильно сказал…
— Знамо, правильно… как нас учили, так чтоб и их…
И обратно к холодной пошли уже молча, но твердо, по ветхой земле, все видавшей, медленно переставляя натруженные за долгую жизнь ветхие ноги.
Канаву для казни решено было выкопать у запруды.
Была в низине за селом в глинистой прослойке запруда, в которой долго, почти все лето держалась дождевая вода. В запруде этой валялись обыкновенно свиньи, плескались гуси и утки… Но немного поодаль земля уже шла мягкая — супесок. В этой-то мягкой земле около запруды и копали канаву, пока светила луна, назначенные стариками.
Дело это было нетрудное, и справились с ним за какой-нибудь час.
Копали молча и споро, по-рабочему хекая и пыхтя.
VIIОдин из четырех сумрачно говорил одному из шести — рязанцу:
— Мы что ж?.. Мы — совсем ничего… Проезжали тут мимо такие, как вы, говорили: «Товарищи, гарнизуйте на месте Советскую власть!..» Ну, мы, конечно, гарнизовали…
— Вы бы им пониже поклонились, старикам своим: «Так, мол, и так, ошибочка у нас вышла, дорогие папаши, простите!..» Они бы, глядишь, и простили, — заулыбался криво рязанец.
— Не-е!.. Ку-уда!.. Так рассерчали, — стра-асть! Теперя нам то-ошна дорожка будет!
Это скулил сухорукий председатель комбеда. Он был утлый на вид парень, — верблюжьи губы, утиный нос, а голова с перехватом, как лежачая просвирка печаткой вперед, и глаза выпуклые, как у близоруких.
Теперь они были натруженно красные, эти глаза, и всё изумленно мигали.
— Видать, что не из очень ты умных, — решил, оглядев его всего, рязанец.
— Очень умных у нас игде взять?..
— Ось, слухай, — тем временем вполголоса говорил другому полтавец, — чи такi дурни у вас тут живут, що им абы сiрое, то и вовк… Шо вiн, партийный, чи шо, — от той лядачий? — и кивнул на сухорукого.
— А ты, значит, по-русскому балакать не можешь, — отозвался тот не без насмешки. — А я, видишь ли, по-хохлацки не понимаю.
— Гм… А революцию понимаешь?
— Это дело совсем особое… Потому как я сам год пять месяцев во флоте служил.
— Без году пять месяцев?.. Много!
— Так что вашего брата-хохла мы тоже знаем отлично… «Самоприделение народностей без анекси и контрибуции!..» Зна-аем!.. Уче-ены! Как зачали в семнадцатом году определяться, черноморский флот делить, — так они себе, ваши хохлы, «Кагул» забрали!.. Ну, молдаванов у нас восемьсот человек нашлось, — тем давай «Волю», — дредноут самый лучший. «Мы, — говорят, — на нем свой флаг выкинем!..» А мы тогда, — великороссы назывались, — собрались это всего-то нас девяносто человек на весь флот, — ни одного корабля нам не досталось!.. До того досада взяла! Сошли мы все на берег, анархистами себя объявили да с черным флагом по улицам пошли… А один с дурной головой так даже в море кинулся!
— Видал такого? — кивнул на него татарину полтавец и уж заискрился весь, чтобы отмочить шутку, но татарин спросил матроса:
— Вы тоже комбед?
— Нет… Ревком.
— Председатель?
— Ну да… а то кто же?.. — И довольно строго наморщил немудрый, но упрямый, четырехугольный, сектантский лоб, закусил заячью губу, поиграл тяжелой челюстью.
Плечи у него были дюжие и шея, как налитая. Одет он был в матроску и сподники — по-домашнему.
Остальные двое здешних держались вместе и лицами были схожи. Оба кудреватые, веснушчатые, мелкозубые; глаза беспокойные, мышиные. И когда они перекидывались отдельными словцами насчет комиссаров, то понять их было невозможно.
— Это там какие? — спросил сухорукого еврей. — Ваши или же чужие?
— Наши… Братья они… — Помолчавши, добавил: — Воры.
— А-а!.. За бандитизм тут сидят? — догадался еврей.
— Не-е… Это тоже комбед.
И совсем понизил голос до шепота:
— Из-за этих двух чертей и я-то сижу… Конокрады… Их сколько время в острогу держали, а как тюрьмы открыли, и они, вот они, тут! Так зачали главировать — ку-да!.. Всю правилу наизуст знают, что и как делать… Весь народ поразорили!..
— А кто же был председатель?.. Ведь вы же, товарищ?
— Во-от! Я!.. Нешь я спротив их могу!.. Когда их в острогу напратиковали во-он как!.. Я ничего не мог!.. «Отбирать у богатых все дочиста!..» Ну и отбирали… Спроти нас, конечно, все богатые вышли.
Холодная была с земляным полом, но в ней стояли нары. В углу на нарах спиной к окну лежал латыш и хрипел. Может быть, ему переломили ребро: иногда он тихо, сквозь зубы, стонал и кашлял кровью. Как наиболее сильного, его сильнее всех избили; однако был жестоко избит и студент. Кто-то ударил его по лицу таким жестким — прикладом ли, кулаком ли, твердым, как приклад, или подкованным сапогом с размаху, — что вбил ему зубы в левую часть языка. Два зуба он выплюнул, но язык сильно распух, левый глаз заплыл, говорить было мучительно.