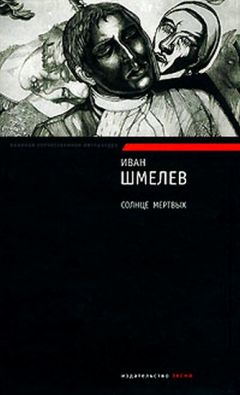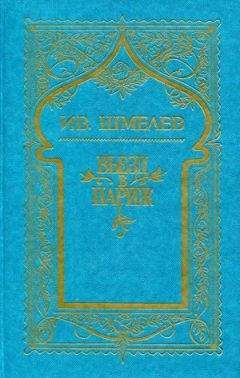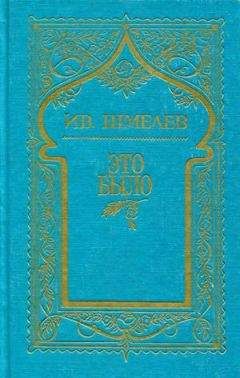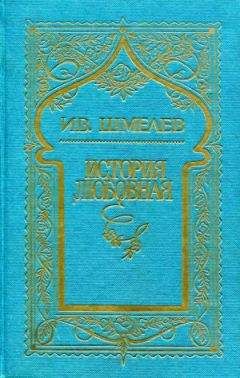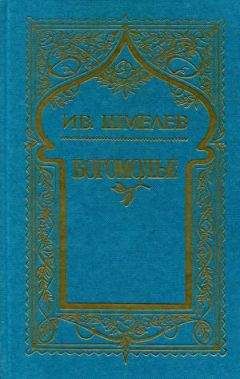Иван Шмелев - Том 1. Солнце мертвых
В прокуренном, жарком вагоне, из Калуги на Москву, сбилось народу около старика-псаломщика, который едет проводить внука-ополченца, призываемого в дружину. Старик дряхлый совсем, благообразный, патриархальный старик, с ласковой седой бородой до глаз, в бархатном картузе, в казакинчике, в валенках, мягкий и благодушный. На него приятно смотреть и слушать его приятно: у него детски доверчивый взгляд и мягкий, ласкающий говорок. Так добрые старики разговаривают с внучатами. Он всем рассказал, что внук у него замечательный регент и до подробностей объяснил, что это значит – регент. Потом очень подробно рассказал, как внук женился на замечательной барышне, – по любви! – и какую замечательную снял квартиру – все электрическое! и какого петуха замечательного прислал ему внук – бесподобного голоса и храбрей его нет на селе! А от внука поедет к Троице, поговеть. И потом принялся рассказывать маленькому старичку, у которого бурый полушубок весь был в новых, кирпичного цвета, заплатах-стрелках, кружочках, шашечках:
– …Все идут и идут, притомились, а до деревни все далеко. И хлебушко у них весь вышел, а ветер встречный, и уж и снежком стало наметывать… И уж на дворе и темень…
– Темень?! – удивленно говорит старичок. – Значит, та-ак… – и качает маленькой головой в большой шапке.
– И стали тут странницы Господа просить, чтобы донес их до какого жилья… И хоть бы человек встрелся!
Ни-кого, ни живой души. И стали оне молиться угодникам. А были оне, видишь, в Киеве, в Печорской лавре…
– В Кееве?! Значит, та-ак…
– И вдруг… идут к ним по дороге три старца! а что замечательно, – один в один, на одно лицо все, строгие… хорошие, конечно, замечательной жизни… Надо думать, – киевские по облику. Может, так будем говорить, Лука, эконом Печерский… – замечательный по своей жизни, оч-чень замечательный. Ну, и еще, скажем, Марко Гробокопатель, тоже необыкновенно замечательный, всем им могилы копал и себе, конечно… и еще третий… ну, к примеру, Иоанн Милостивый… Все сии замечательной жизни…
– Замечательной?! Значит, та-ак…
– Идут, ни слова не говорят. И замолились старушки: укажите нам путь ко двору-жилью… метель нас заносит-укрывает. Да-а… И уж совсем стали коченеть. А старцы ближе к ним идут, а ног не слыхать, постуку-то от них нету, как движут по воздуху. Остановились тут старцы и говорят: «не погибнете вы, убогия, не бойтеся!»
– Не бойтесь?!!
– Да, не бойтеся. «Мы вам встрелись – мы вам и путь укажем. Идите прямо, тут вам и стан-пристань!» Возрадовались странницы-богомолки, в слезах радостных спрашивают тех старцев: «а как нам за вас Господа Бога молить, какое ваше имя святое в молитвах поминать?» А старцы-монахи и отвечают: «не надо за нас Господа Бога молить, в молитвах нас поминать»…
– Не надоть?
– Да… «Мы петы-молены, от Господа Бога превознесены. Мы, говорит, ходим по дорогам, учишаем слезы горькие, веселим сердце человеческое! Лежали мы тыщи лет под землей, правили нам службы-молебны, да… теперь время наше пристало, поведено нам ходить по всей земле православной…»
– Да-да-да…
– А потом и говорит один из них, самый середний, повыше других…
– Повыше, стало быть… та-ак.
– Все они одинакие, а один маленько повыше… «Идите, говорит, вас теперь каждый воспримет… каждому говорите, как вышла вам радость-избавление, так и всему народу православному избавление-победа, чтобы не сому-щались». И сокрылись.
– Сокрылись?! Значит, та-ак… нисчезли.
– А тут сейчас и выходит самое это. Затихло ненастье, ветер кончился и метели нет. Пошли странницы… шагов, может, всего-то сто и прошли – вот онр и село. Донесло их духом. Стали у мужика одного разоблачаться, а у каждой по просвирке в котомочках… совсем мяконькия…
– Да-да-да… про-свирки?!
– Сейчас пошли в церковь, доложили батюшке – так и так. Это мне один человек рассказывал, хороший человек, замечательный человек по жизни… Близ его волости, будто, было… а в трактир в городе моему крестнику сам трактирщик говорил, что под Тулой это вышло…
– Слыхал и я… – раздался с верхней лавочки голос, и показалось круглое и красное, как титовское яблоко, лицо. – Только у нас в Тихоновской Пустыни, сказывали, что монахи безо всякого разговору прошли, но однакось старухи те прямо сейчас и пришли в село. А исчезли они – это так. Сразу, будто, и скрылись. Разное болтают. Будто и другие монахов видали, только в белых каблуках, будто…
– Ну, там я не знаю, что болтают… что слыхал, то и сообщаю… Был про войну разговор, – вот, говорит, видение какое было. Урядник тоже тут был наш, интересовался.
– Воспретил?
– Нет. Воспретить не воспретил, а… все-таки, говорит, не надо много разговоров. Но, между прочим, все понимают, что к чему…
– Этого невозможно воспретить… чего ж тут! – сказал мужичок, снял свою шапку, посмотрел в нее и опять надел. – Тут божественное…
Так приходят знамения, рождаются сказания. Пусть… Пусть только приходят радостные.
<1914>
Правда дяди Семена
Рядом с Мироновой избой-игрушкой изба дяди Семена смотрит хмуро, значительно, как и сам хозяин. Много повидала всего, две крыши сменила, осела, спеклась, и стал ее лик говорить: пожили, повидали, знаем. Рожали и умирали в ней; выбирались в пожар; плакали по сведенной за недоимку корове; проклинали судьбу и очень уж мало радовались. Только последние годы стали немного радоваться, когда воротился дядя Семен из Москвы, с лакового завода, завел яблочный садик, перестал пить, «распостранился» хозяйством, пережил трудные годы, когда служил Михаила в солдатах, поженил сына, – а тут и война. Самое-то хорошее и было, когда прошлым летом заново крыли крышу – на свадьбу, под молодых. И теперь смотрит эта былая короткая радость свежей соломой. А в радужных, пропеченных стеклах скупых окошек – прежнее, нерадостное глядится: воротилось. А ведь и стекла новые собирался вставить дядя Семен к прошлому Покрову – пусть глядит веселей. И не довелось вставить. А теперь и совсем ни к чему: на старое-то глядеть можно и в старые стекла. Да и глядеть неохота.
– Вон Мироша-то в новые глядит – глаза режет. Воротиться-то воротился, а, гляди, завтра и не поворотился!
Дядя Семен теперь хорошо знает, что за болезнь у Мирона от немецкой бомбы. И не завидует.
Но, ведь, ласточки опять прилетели на старые гнезда! Ведь это к счастью? Прилетели и отлетели. Осень опять идет, нерадостная пора. Ну, а было ли радостного-то за год?
– Нет… ничего не было.
Не тот он, каким был год назад, не крепкий. Серые его кудри побелели, в глазах томленье… Молчит-молчит – и передохнет с сипотцой. И у сердца потрет, под мышкой, и головой покачает, и неспокойно ему на завалинке, где сидим: нет-нет и задвигается.
– Радостное… – угрюмо говорит он и смотрит за реку, на луга, словно перебирает в памяти, – а, может, и было что радостное?
– У кого оно… радостное-то? I Шутки… Вот в городу, у лавошников, да… энти рады! Есть такие, что Бога благодарят. Ну, когда ей конец, а?! Неизвестно… Никому не известно. Думаю-думаю, ничего в понятие не возьму… ведь, раззор! Всем раззор будет! И немцам, все равно – раззор! Значит, такое дурение народов. Немцы, и те вон совсем задурели. Да так. Сказать тебе правду, – странникам всяким, бормоталам, веры не даю… языческим инструментом этим хлеб зарабатывают, распространяться не допускаю. А вот ночевал у меня один, вологодский, степенный… к сыну шел, в лазарет… Старик – худого не говори, по разговору видать. И сын ему написал под присягой… сам я и письмо от его читал с клеймом. Так и пишет, что – под присягой тебе сообчаю. Под городом, пишет, Лосью… – знаешь, город Лось? – Ну, вот под этим городом набили наши немца большую гору… под колокольню, слышь! Под присягой, говорит, пишу! Сам бил и видал и разговор ихний слышал, до чего отчаянность! Били его, били, а он все прет. Уж и пушки все раскалились, сил нет… и уж мы на его побегли со всех трех концов, невмоготу уж ему и ружья держать от жару… покидал ружья, руки поднял, а сам все кричит, ногами стучит-топчет: «дайте нам Варшаву!» А?! Ведь, это что… какое, надо помрачение в голове! Достигну, говорит! И достиг?! Достиг, леший его дери! Ну, правда… опаивают его… вроде как вохманские капли у него в пузырьке… дознали. Глаза выпучит, свету не видит… ну, и жись ему недорога. Чу-ме-ют! Ну, как тут противно такого манера?! Газы пущает – даже черви, будто, на аршин в земле подыхают! Это называется – образованные!.. Дураки – не выдумываем, а вот образованные!., которые все науки учили, и как людей потравить, дар Божий… Газ летучий употребляют, чисто на крыс! Закон Божий учили… и в Бога признают!
Говорит дядя Семен, Орешкин, бывший десятский, бывший лаковар, которого Закону Божьему не учили. Он родился рабом, по третьему году получил волю и уйму долга и не получил ничего больше. Потом он долгие годы получал пинки и затрещины и самые пустяки за труд. И Закона Божьего не учил. От земли, от этого неба тихого получил он какие-то свои законы, в темную душу свою уложил и несет. И знает, что беззаконие. Смотрит на него с синих куполов крест небогатой церкви в тихом озарении вечера. Мало и про этот Крест знает дядя Семен. Вряд ли знает, что и там тот же Крест. Пусть уж лучше не знает.