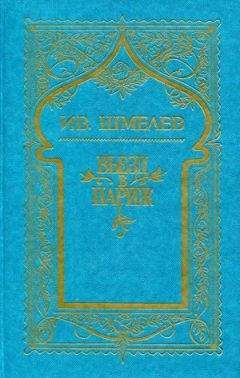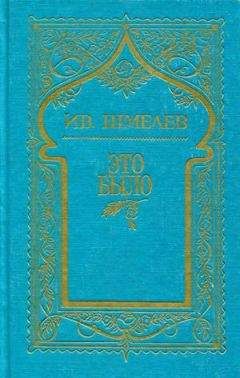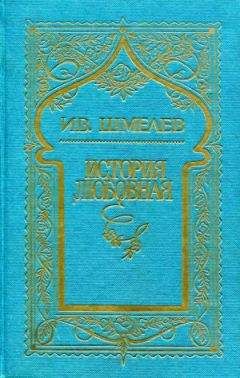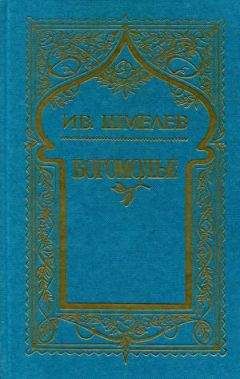Иван Шмелев - Том 1. Солнце мертвых
Как-то зашел Нырятель, мужичок-рыболов из-под Щетинина омута, напомнил:
– Помните, лещ-то? Бабы-то наши учуяли, а?! Да и то сказать, – Бог и скотинку умудряет.
И вспоминается теплая июньская ночь на Щетинином омуте и рассказ о рыбах.
– …Как оттерся, выпростался, вся тешуя с его соплывет и соплывеет – до крови. Слабость на его нападет и нападет, беда. Сейчас первое ему удовольствие – лечиться. Воды ему, стало быть, свежей и песочку. Он тебе не пойдет куда вглыбь там, это уж он знает… знает, где ему польза окажет. Первый ход ему, чтобы беспременно на Кривой Брод. Сейчас, первым делом, Господи, баслови, – на Кривой Брод поползет, стена стеной! Так и валит, так и валит рядами, головешками в одну сторону, чисто тебе войско его идет. Тыщи миллионов его тут, а нонче бы-ли?! Мать твоя, сковородка! Засыпал и засыпал весь брод! И ведь чего – не боится! Мужики едут прямо на его, он тут возля стоит – дави, на! Истинный Господь, не вру. Пожмется так, малость самую, чтобы только по ем не ездили, и стоит. Ах, ты, леший! Да-а… Ну, теперь подходи к нему с наметкой, с берегу – вот он, накрывай! Ладно. То-олько завел… врешь. Сейчас снизится, поотодвинется и почнет клониться к тому краю… ни-как! Продвинется, сколько ему полагается, чтобы не достать, опять подымется и стоит. Заходи оттеда – опять сызнова разговор. При-трафлялись сетью, – только станешь подбираться издали, во-он откуда портки спустишь, – в омут сплыл и сплыл, как по команде. Чисто у его там распоряжается кто. Не веришь? Чтоб мне его никогда не поймать, истинный Бог – не вру. Спрашивай у тресвятских, у болотин-ских – издят они через Кривой Брод, видали. Из годов год. Вот бабы раз… уж и смеху было! – идут гуртом, а я тут, под теми вон кустиками, у подмоинки, на судачка жерлицы расставлял… ка-ак заверещат, да ка-ак шарахнут! Его, стало быть, и увидали, в самый-то полдень. Вода-то че-орная от его, – весь песок укрыл, перья поверху шумят, играют, на спинках-то… горбушками-то черными так и выпирает весь вон. Креститься начали. К войне, што ль, он это? – говорят. Истинный Бог!
Теперь Нырятелю все кажется вполне ясным. Рыба! Уж если про рыбу разговаривать, так умней ее нет. Надо ее понимать, а Нырятель ее понимает лучше кого угодно. По пять минут в воде пробыть может! Не усмотришь враз – потом схватишься, да поздно. Вот окуня нынче совсем на чистой глубине не видать стало, – весь в крепи, под топлюги забился, укрепился и никуда, а в прошлом году бреднем пойдешь – и трехфунтовых зацепишь. Это уж он чует чего. Теперь этот еще: ельчик: запропал и запропал. А елец-то какой все был – четверть! Куда его вымело? Пескарь, шут его разберет, на глыби хватать стал, в тишинке. Разве ему тут место?
– Прямо, – говорит шепотом Нырятель, – рыба нонче ополоумела. Налим в июле ловился, в самыя жары! Головля я знаю, как свои капиталы, где ему когда быть полагается, – фунтовичкам ли, тройчкам ли… все квар-теры ихния знаю. Ну, и что ж он у меня выкинул, какую манеру! Ныряю за им под ветлами, где бырит кругами… тут, ведь, ему, сердешному, сласть самая… хорошо. Как в погреб мне за им слазить. Мырнул разок, движу по дну, гляжу – пескаря насыпано, как каши! Шуганул. Щурец ветре лея, та-ак с полфунтика, внимания на него нет. Ладно. Да игде ж, думаю, головли-то мои? Под кручу дошел – единого-разъединого головлишку ветрел, та-ак с фунтик, – не пойму и не пойму. На ямы перешел, к глыбам, где только налимам стан настоящий, а головля тут и не пахло никогда… Пожжалуйте! Весь тут, чисто хоронится. Прямо, ниспроверг и ниспроверг. Почему такое? Присягу на их приму, известны они мне сорок седьмой год, как нырять стал. Первый раз обманулся. Какое-нибудь им понятие надлежит, для чего нужно… через землю им подается – шут их разберет. Рыба, а хитрей этих рыбов нет. Молчит – думаешь, бесчувственное какое существование-предмет, а она свое ведет, свой оборот. Налим… с морды его глядеть – дурак и дурак, а он такое может, что…
Но о Нырятеле и его рыбьем царстве, которое он знает, как ни один ихтиолог-профессор, я попробую рассказать в другое время, когда настанет пора спокойных и веселых разговоров.
IVУ дяди Семена, бывшего десятского, давно обобраны яблоки, ободран осенними непогодами сад, и шалашик, засыпанный почерневшим листом, глядится грязным ворохом гнили. Давно улетели ласточки, закуталась в солому изба, смотрит больной и слепой и даже покосилась как будто. Долгими вечерами под желтым огоньком висячей лампы ткет бесконечные фитильные ленты молодка-сноха, толкает и толкает стукотливый станок. Дядя Семен ищет по старым газетам «списки», водит по непослушным строкам непривычным пальцем, все ищет. Нет, не находится: все офицеры и офицеры. Разве все упишешь в газетах. Сказывают вон…
В первом списке, который он находил читать в городе, не дождавшись известий из волости, не нашел он своего Михайлу Орешкина. А больше трех недель нет письма. А уж и старуха Зеленова получила совсем недавно, – сын ее лежит в лазарете, в Минске, и скоро опять подвигнется на приступ. И Никифоровы получили известие, форменную открытку из Германии, – ишь ты, куда попал! – что в плену сидит Васька Никифоров, в лазарете. И уже три двора знают, что убиты их сыновья и хозяева – гармонист Сашка Вяхрев, Степан Недосекин, столяр-модельщик, – восемьдесят рублей добывал в месяц, – и Ганя Крапивин, с поджабинского завода, формовщик.
Выпал глубокий снег, надели пушистые чепцы принизившиеся избушки. Засветлели поля, и новые дороги проложили свои рыхлые ленты. На сердце повеселей как будто. Крепче трещат на задах сороки, несут и несут вести и утром, и к вечеру.
– Как, дядя Семен, дела? Стоим у въезда в село, у церкви.
– Жив!! – кричит он, хотя стоим лицо на лицо. – Сразу три письма вчера получили! Во семи боях был, подо всякими канонадами!.. Уберег Господь… так рады, так рады!
Он не такой, как всегда. Он не нанизывает слова, и пропала его степенность: говорит-говорит, и, кажется, все в нем взбито и перетряхнуто. Скоро-скоро крестится на белую церковь, на которой уже налажен крест.
– Носкн шерстяные ему послал, да хуфайку с варежками, всего навязали. Лепешек старуха ему напекла-а!.. Жив!
И, точно испугавшись великой радости, говорит тихо:
– Ну, только война эта, не дай Бог, как сурьезна. Что-то Господь даст…
Помнит ли, что загнездились у него ласточки?
– Главное дело, старуха чует, что возворотится: сердце у нее легкое стало, вот что. Она по сердцу узнает. Пишет, – маленько ногами жалится стал, на воде довелось много разов отличаться. Ну, да ведь не на гулянках, всего бывает. Мы тут в тепле, в одежде, в сытости, а им и не попито, и не поспано, да… Да только бы возворо-тился, а то у нас тут старуха Зеленова умеет, как взяться, – пареной брюквой со шкипидаром, живо распространить. В земской тоже хорошие доктора, – с полгоря. Стены помогут. Сейчас с почты бег, отправку ему делал. Старуха ему лепешек там, а я упомнил, – копченую селедку он уважает, – прямо, брат, ему цельный пяток всыпал! А?! Дойдет?
– Дойдет.
– Там кажный кусочек – не наглядишься! У нас тут и творожку, и барашка намедни посолили, и чайку, а там… не распространишься, а? Ведь, верно?! Там им…
Что это? Дядя Семен моргает и старается скинуть накатившиеся совсем было забытые слезы. Сам удивлен, смазывает их жесткой, обветренной рукой и смеется тихо – не может уже сдержать себя. А оне все бегут, скатываются по носу, прячутся в бороде. И у него, такого крепкого, такого сурового, хозяйственного, который кричит на свою старуху, если она начинает ныть, даже у него ослабело снутри.
– Да что, другой раз так. Намедни, как писем не было, не сплю и не сплю. Пошла старуха корову поглядеть, – телиться ей вот-вот, – а со мной какая манера вышла! Сплю – не сплю… вижу – Мишутка, как махонький еще был, сидит на лавке, где у нас в рамочке похвальный лист, отличие его из училищи, и смеется. Так меня… вроде как удивило. А тут смотрю – ничего, старуха прибирается, ведром стучит. Шесть часов! Стали гадать, к чему такое. Говорит – к хорошему, ежели он веселый… сон-то такой явственный. Тут я раздумался и, прямо сказать, поплакал чуток, впервой… старухе не сказался. Глядь – три письма! Скажи на милость! Чисто сам принес.
Знамения… Пусть приходят знамения, которыми живет сердце. Пусть прилетают ласточки и вьют гнезда, смеются по темным избам являющиеся из страшных далей детские лица. Пусть и сороки несут хорошие вести. В светлых одеждах светлоликие жены пусть подымаются до самого неба и наводят страх Божий на полчища супостатов. Если и их не будет, этих сердцем рожденных знамений, что уяснит, успокоит и вызовет радостные слезы? И рыбы пусть вещают неведомыми знаками, и птицы, и голоса. Пусть только радостное. В пустынных полях только ветры блуждают, метели идут на пустые поля. Что веселого скажут они плачущим своим воем?
VВ прокуренном, жарком вагоне, из Калуги на Москву, сбилось народу около старика-псаломщика, который едет проводить внука-ополченца, призываемого в дружину. Старик дряхлый совсем, благообразный, патриархальный старик, с ласковой седой бородой до глаз, в бархатном картузе, в казакинчике, в валенках, мягкий и благодушный. На него приятно смотреть и слушать его приятно: у него детски доверчивый взгляд и мягкий, ласкающий говорок. Так добрые старики разговаривают с внучатами. Он всем рассказал, что внук у него замечательный регент и до подробностей объяснил, что это значит – регент. Потом очень подробно рассказал, как внук женился на замечательной барышне, – по любви! – и какую замечательную снял квартиру – все электрическое! и какого петуха замечательного прислал ему внук – бесподобного голоса и храбрей его нет на селе! А от внука поедет к Троице, поговеть. И потом принялся рассказывать маленькому старичку, у которого бурый полушубок весь был в новых, кирпичного цвета, заплатах-стрелках, кружочках, шашечках: