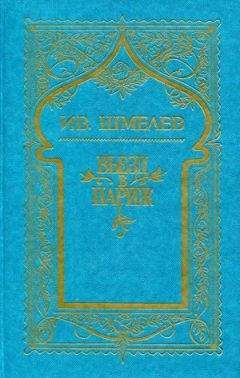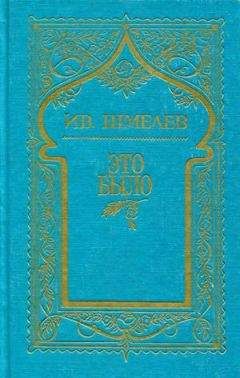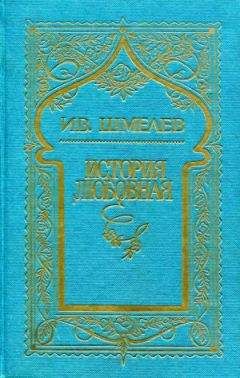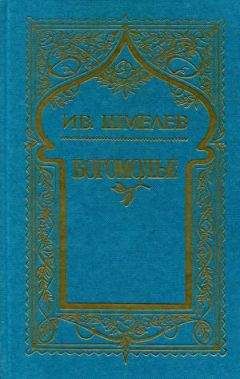Иван Шмелев - Том 1. Солнце мертвых
– Смерть всегда будет, – сказал студент.
– А, должно быть, старинная… такие редки. Их уже домами задавило. Тут идея живет, а кругом каменные дома-чудища, где гремят ступки, сдают комнаты, сидят без сапог. И колокола начинают звонить в стенах, у пятого этажа! А на крест вытряхивают ковры…
– Знаешь что, брат, – сказал студент, всматриваясь в Качкова. – Вот вышел ты, и еще больше волнуешься. А это совершенно лишнее при твоей… лихорадке.
– Мне гораздо лучше. Войдем?
Они вошли. Народу было еще немного. Ходили взад и вперед, возили ногами можжевельник. Направо у Распятия молилась, тряся головой в сложенные у лба пальцы, старушка. Мигала пунцовая лампада, и бледные руки Распятого в тенях от цепей лампады будто сводило судорогой.
– А ведь хорошо – все красное! – сказал Качков на лампаду. – Свечи красные и цветы красные и розовые… И кровь, и радость.
Но пока под сводами было темно.
Когда они выходили, народ шел гуще. Попахивало сырыми квартирами и новой, невыветрившейся одеждой. Напирали к свечному ящику, оглядывали верха – пробивались поближе. На паперти толстый хоругвеносец с густой бородой, в позументовом кафтане, кричал кому-то:
– С запрестольными от Ивана Николаевича будут! Подходила и чистая публика. Дамы в белых платках несли белые подолы, пахли духами. Провели под руку старенькую барыню в капоре и лисьей ротонде с серым лицом, а за ней богаделенка протащила коврик. Взявшись за руки, втягивалась в толпу оживленная вереница веселых девичьих лиц, – гимназистки с красными свечками. На паперти тоже продавали свечи при мигающем огоньке. Позвякивали деньги. Бежали в глубину церкви над головами безыменные белые свечки – празднику. Певчие черной кучкой толпились особняком, точно собрались заговорщики. Высокий и тощий, должно быть бас, урчал говорком:
– Тенора нет… где тенор, где Васильев? Подкатывали неслышно на своих лошадях и медленно вылезали. Зажигали над входом красную звезду. Мальчишки просились на колокольню.
Качков и студент пошли, но теперь уже им шли навстречу, а через квартал уже шли другие, туда – куда и они. Только теперь по народу можно было отыскать церкви. Да они уже начинали обозначаться на темном небе огненными верхушками. Из-за невысокого дома выглядывала башенка в огоньках.
Это был, должно быть, богатый приход, – валило народу из переулков, и справа и слева.
– Это какая церковь? – спросил Качков попавшегося мальчишку.
– Каменная! – сбаловал мальчишка и потом сказал, что это церковь Ивана Богослова.
Иван Богослов сиял: висели гирлянды над входами и все окна были в белых кубастиках. Здесь уже началась служба, и трудно было пробиться. За посеребренной оградой, под полотняным навесом, стояли на новых полках залитые огнями красных и белых свечей пасхи и куличи в красных розах. Мальчишки глазели на это чудесное, огненное и цветное, и в глазах их горели свечи, тускло блестели головы и промытые щеки. И сиял над белой палаткой крест в красных кубастиках.
– Как красиво! – сказал Качков. – Какая игра!
Хорошо пахло сдобным и кислотцой. Сидел на корточках огромный мужик в полушубке и поправлял красными лапами разъехавшуюся пасху, а мальчишки таскали крошки.
Пришла кучка солдат и дружно полезла в забитый головами проход, обнажив стриженые затылки, с фуражками на плечах, натирая шинелями чужие щеки. Было трудно пробиться. Качков со студентом остались на паперти и смотрели через головы вглубь, где тускло поблескивала позолота и краснели венки икон. А вот и знамена. Они зыбились в этой глубине темно-золотые и темные, поматывая кистями на древках, – знамена церкви. И уже катились на улицу голоса, и ребячьи голоски дискантов высоко возносили: –…ангелы по-ю-ут на не-бе-си!
Вывалилось за ними живое нутро церкви и потекло под знаменами.
– Как чудесно! – воскликнул Качков. – Какая мастерская рука все слепила, одела в цветы и огни и все пронизала прекрасным словом! А колокольни! И там, и там! – показал он под небо, где горели верха. – Ведь и тут искусство. И только к нему доступ… только его знает эта черная масса… Ей только церковь одна доступна! Только она еще не отказывает. Через церковь прошел, через жестяную купель, крикнул и придет сюда, всякий придет в конце. И церковь благословит его. А теперь одна она говорит о светлом. Ведь везде по билетам, а тут… Нищие вон толпятся на паперти, но и они могут войти, как равные, стать на колени и молиться в огнях и золоте! И никто не посмеет прогнать I – взволнованно говорил Качков, тряся за рукав студента.
– Выгоняют, и очень просто, – сказал студент. – Идея одно, а…
– Нет, не смеют! Церковь – это величайшая идея! Студент взглянул на его дергающееся лицо и сказал:
– Чудак ты. Прекрасно, ну, не выгоняют. Зачем волноваться-то? Ты уж охрип.
Уже обходил крестный ход тьму вокруг с тысячами огней. Высокая толстая свеча дьякона качалась над головами.
– Вот, вот оно! – показал на толпу Качков. – Единение! Все одним связаны, тем, что живет в тайниках души, что не выскажешь. Объединены одним, чем и ты, и я. Только они не скажут. Я сливаюсь с ними, я чувствую их, и они мне близки! Только великие идеи могут так связыватьI Родина, вера, самое дорогое, что ни за какие силы нельзя продать!
– Да не кричи ты так… смотрят на тебя все!
– Мне все равно, пускай. А как удивительно глубоко все это! Ну, смотри. Чернота кругом, уж и огней уличных не видишь, они утонули, провалились, будничные огни… Теперь воск горит! Воск!! Ночь глухая, и когда всем бы спать, какая-то важная-важная необходимость… и вот взрослые люди, которые днем торговали, обманывали, устали от тяжкой работы, – теперь умылись, надели все чистое и идут, поют… радуются! Какова же должна быть сила, чтобы заставить! И ведь с радостью!.. Это идея! Идея освобождения, воскресения и подъема! Может, и не понимают ее, но чувствуют и хотят, страстно хотят жить ею! Понимаешь, я теперь людей чувствую… целовать их хочу! хочу! Я тоже сейчас чувствую, как этот… не знаю кто… ну, тот поэт, который слагал эти песни… «И друг друга обымем! И ненавидящим нас прости вся Воскресением!» Мне плакать хочется!..
Голос Качкова осел и скрипнул. Студент взял его за рукав и сказал:
– Пойдем-ка домой. Даром только палишь себя.
– Мне теперь ничего не жаль и ничего не страшно. И все ничто в сравнении с тем, что я сейчас переживаю. За это можно отдать, не знаю что! Я высказаться не могу… как я переживаю… Милый! Да ты посмотри, сколько людей! Все, кто может, все идут сюда, к этому свету, потому что у них нет никакого другого света. Воскрес! В этом одном сколько – Воскрес! Я не про символ. Но надежда ведь тут, какая-то неясная, только чуемая будущая радость огромная. Воскреснет! Человечество воскреснет! И это создала церковь, вообще церковь… создала идею света и жизни! Ее петь надо! Это и святая сила, и величайшее искусство – вихри будить в душе, захватить так, до экстаза! Ведь это свет во тьме, эти церкви! Ведь не будь их, что бы было? Ведь некуда бы было пойти, ибо везде по билетам, с афишами! Ведь сплошной черный день была бы подлая жизнь! Не могут же они, эти жить эмоциями выс-ше-го порядка! А звон-то…
Начинался хрустальный звон. Издалека плыл и накрывал город. Ударили и у Ивана Богослова. И как ударили! Должно быть, особенные какие были колокола.
И когда сказал Качков: «Какой звон!» – стоявший рядом в рыжем пальто, с багровой шишкой – наростом под нижней губой, сказал:
– У нас звон изо всех звонов! Покойник Иван Андроныч пожертвовал… Культяпкин, Иван Андроныч… Сколько-то тыщ очень много положено.
– А, Культяпкин! – сказал, вздрагивая, Качков. – Купец?
– Мясник он, конечно… но в купеческом звании… И електричество на колокольню для лиминации проклали в прошедчем году… и все ихнее, и новый алтарь…
– Ну и… дай ему Бог здоровья!
– Да уж он помер… в прошедшем году еще.
– Слышал?! Господин Культяпкин, мясник! И на идею!
– Прикинь побуждения, – сказал студент. – Эти умеют ковать копеечку.
– Я беру – вот! – показал Качков на звенящую колокольню. – Я все беру, дух самый, а не побужденье! Прощаю! Все прощаю Культяпкину! Все! Одним жестом вычеркнул и захерил! Искупил. Ты не пришел, он, я не пришел и не поставим им этого звона… вот стоит человек и радуется. Потому что он не знает никакого другого звона, а радоваться хочет, прикоснуться, пить из чудесной чаши! Вон эти… вон, ломятся в двери и кричат, что воскрес! Эти желают, радости хотят! И если бы не было этих культяпкиных, эта колокольня была бы во тьме, не горела бы эта звезда… не звонили победно… Темные церкви были бы, потому что ни ты, ни я не придем и не заставим гореть! Я не говорю, что дадим и отдадим себя им, я верю, – но это… это самое чуткое, самое дорогое в жизни! Прикасание к Божеству! Это все – огромнейшее искусство, святое! Наша мазня, воды, березы, лошади… как это мелко! А это все пронизано величайшими символами! И на это Культяпкин дает! Всем дает, и тебе! Ведь тут без билетов. Ну, демократ… радуйся! Или отнимешь? Подымется рука, демократ?! – дергал Качков за рукав студента. – Скажешь, – а-а, Культяпкина превозносишь! Я его обниму за это! Только за это прощу, если у него дух горит!..