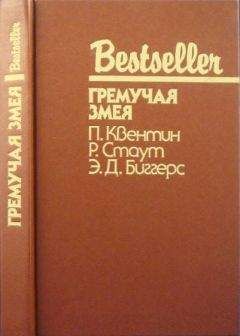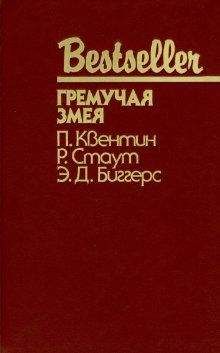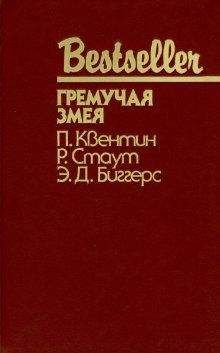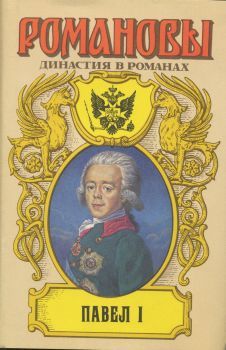Всеволод Крестовский - Деды
– Жена!.. Хорошо!.. Поздравляю… У, да какая ж красавица!.. Любите его, сударыня, – прибавил старик, – любите… Он честный солдат и человек… Он достоин сего… Вы не дочь ли графа Илии?… Знавал я его некогда… в молодости… товарищи были.
– Да, я дочь его… Да вот и он сам, мой батюшка! – представила ему Лиза стоявшего за ней дряхлого генерала.
– А-а!.. Граф Илия!.. Здорово, друг! – приветливо проговорил Суворов, озаряясь страдальчески-светлой улыбкой. – Дай руку!.. Устарели мы немного… А помнишь Куннерсдорф?… Налёт на Берлин с Тотлебеном?… Вместе были… Лихое время!.. Молодость!..
И, пожав руку графа, он от слабости томно закрыл веки и погрузился в мягкие подушки.
20 апреля, в одиннадцатом часу вечера, тихо въехал Суворов в Петербург чрез воздвигнутые для встречи его триумфальные ворота и принял скромную почесть заставного караула, вышедшего к сошкам по причине позднего часа в силу устава без ружей. Не заезжая в Зимний дворец, остановился он в доме племянника своего, графа Д. И. Хвостова, на Екатерининском канале, близ церкви Николы Морского, и там почувствовал себя сразу до того плохо, что тотчас же безмолвно лег в постель.
Государь, узнав о приезде Суворова, немедленно прислал к нему его сподвижника, князя Петра Ивановича Багратиона, проведать о здоровье и поздравить с приездом. Багратион застал старика в постели, едва дышавшего от изнурения. Часто впадал он в обморок; ему терли спиртом виски и давали нюхать.
Пришедши в себя, он взглянул на Багратиона, и в его больших глазах не блестел уже взгляд жизни. Долго смотрел он, как будто припоминая его, и наконец узнал.
– А-а!.. Это ты, Петр!.. Здравствуй!
И замолчал, забылся.
Минуту спустя взгляд его сознательно опять остановился на Багратионе, который, пользуясь мгновением, поспешил передать ему все, что приказал государь.
Суворов при этом как будто оживился.
– Поклон… мой… в ноги… царю… сделай, Петр!.. Ух… больно! – с усилием проговорил он, и застонал, и впал в бред.
Багратион донес государю обо всем и пробыл при его величестве за полночь. Меж тем каждый час доносили императору о ходе болезни Суворова.
– Жаль его! – с глубокой грустью сказал государь между многими о нем речами. – Жаль! Россия и я со смертию его теряем многое… Да, мы потеряем много, а Европа – всё!
Наутро явился к генералиссимусу горячий поклонник его, вице-канцлер граф Ф. В. Ростопчин, и привез собственноручное письмо Людовика XVIII, при котором князю Италийскому препровождались ордена Святого Лазаря и Святой Богородицы Кармельской. Суворов просил прочитать письмо и, взяв ордена, спросил:
– Откуда присланы?
– Из Митавы[433] – отвечал Ростопчин.
Горькая улыбка мелькнула на устах страдальца.
– Как – из Митавы? – проговорил он. – Король французский должен быть в Париже!
И как бы сомневаясь, так ли ему прочитали, просил еще раз прочесть письмо, и когда услышал слова: "Примите, герой великий, знаки почестей от несчастного монарха, который не был бы несчастным, если бы следовал за Вашими знаменами", – крупные слезы блеснули на глазах его. Старик перекрестился, поцеловал кресты орденов и безмолвно опустил их на колени.
С каждым днем, с каждым часом недуг все усиливался; давнишние привычки и оригинальности Суворова исчезали одна за другой.
Медленно, тихо и безропотно угасал закаленный старый солдат…
Память заметно начинала изменять ему, так что часто забывал он названия местностей, прославленных его недавними боевыми подвигами, забывал даже и самые эти победы. Но по временам светлое сознание возвращалось, и тогда он старался крепиться, вставал с постели, присаживался в большие кресла, заставляя двигать их по комнате, и даже занимался турецким языком, причем вспоминал свои походы в Турции; но вдруг нить воспоминаний этих прерывалась – он умолкал, голова его грустно никла на грудь, и тогда с глубоко скорбным вздохом вырывались у него слова:
– Зачем не умер я там, на полях Италии…
Услышав однажды от племянника, что до него есть дело, Суворов вдруг совершенно ободрился и твердым голосом произнес:
– Дело?… Я готов!
Когда же все "дело" объяснилось тем, что барон Бюллер желал получить пожалованный ему баварский орден непременно из рук знаменитого генералиссимуса, Суворов грустно опустил голову и слабо, едва внятным голосом промолвил:
– Хорошо… Пусть войдет…
Наконец врачи потеряли всякую надежду.
Чувствуя приближение смерти, Суворов 5 мая призвал духовника, исповедался, причастился и с ясным спокойствием духа простился со всеми окружающими его. Наступила ночь, и с нею – бред предсмертный. В беспамятстве умирающий герой отдавал разные военные приказания, твердил о Генуе, истолковывал стратегические планы свои… Бред продолжался и утром, и последними словами Суворова были: "Генуя… Сражение… Вперед!" – а во втором часу дня 6 мая 1800 года, в день святого Иова Многострадального, великий и тоже многострадальный человек тихо испустил последнее дыхание.
Глубокое и тяжелое впечатление произвела весть о смерти Суворова в столице, в войсках, в отечестве. Многие инвалиды, его соратники, и все русские полки служили панихиды по усопшем "отце", и эти люди, бесстрашно и хладнокровно глядевшие с ним вместе на смерть, так близко и так часто, в кровавых боях, теперь неутешно плакали, как дети…
Император, до глубины души огорченный смертию русского полководца, послал своего генерал-адъютанта передать родным покойного, "что наравне с Россиею и с ними разделяет скорбь о потере великого человека".
На другой день массы народа теснились около дома, где скончался народный герой; и тихо, благоговейно входили, один за другим, посетители в траурную залу, где стоял на катафалке гроб Суворова. Лицо его до того было спокойно, что он казался не мертвым, а только уснувшим. Кругом на бархатных подушках сверкали все ордена и многочисленные знаки отличий генералиссимуса. Люди всех званий и состояний, не только петербуржцы, но и нарочно приехавшие из других городов, хотели взглянуть еще раз на почившего и поклониться его бренным останкам. В числе их замечали множество старых инвалидов, которые плакали и молились… И все трое суток таким образом толпился русский народ у этого дубового гроба.
Настало ясное, теплое утро 9 мая. По улицам из Малой Коломны медленно тянулся похоронный поезд Суворова. Все духовенство столицы предшествовало гробу, стройные клиры оглашали весенний воздух пением «Святый Боже». Все сановники, вся знать, военные и гражданские чины, сословия дворянское и купеческое, представители науки, литературы и всех искусств и неисчислимое множество народа шли позади печальной колесницы. Далее следовали войска со знаменами, обвитыми черным флером. Глухо и монотонно били похоронный марш барабаны, сопровождая мерным и медленным своим боем печальные звуки мелодических флейт. Далее стройно раздавался мрачный марш кавалерийских хоров, а еще далее, позади траурных эскадронов, тяжело громыхали по мостовой артиллерийские орудия. Бесчисленные толпы теснились на улицах вплоть до самой Александро-Невской лавры. Окна, балконы и даже крыши домов усеяны были народом. Державин шел за гробом и выразил скорбь свою о кончине героя, подвиги которого долго служили ему предметом поэтических песнопений. «Северны громы в гробе лежат!» – так слагал он о смерти Суворова.
Кто перед ратью будет, пылая,
Ездить на кляче, есть сухари?
В стуже и в зное меч закаляя,
Спать на соломе, бдеть до зари?
Император Павел, окруженный блистательной свитой, верхом выехал на угол Невского и Садовой. Задумчиво стоял он близ Публичной библиотеки, ожидая приближающуюся процессию, и, когда она поравнялась с ним, его величество снял с головы шляпу.
– Прощай!.. Прости!.. Мир праху великого! – сказал он в полный голос, отдавая низкий поклон усопшему, – и все видели, как в эту минуту текли слезы по лицу государя.
В воротах лавры шествие затруднилось. Опасались, что высокий надгробный балдахин не пройдет под ворота, и уже хотели было снимать его.
– Вперед! – закричал вдруг старый гренадерский унтер-офицер, прошедший все походы вместе с Суворовым. – Не бойсь-те, пройдет! Он везде проходил!
И вот по слову старика инвалида разом двинулись вперед – и действительно колесница вместе с балдахином "прошла" на монастырский двор вполне благополучно.
Обряд отпевания совершал митрополит Амвросий. В последний раз загремели Суворову грозные пушки и зарокотали ружейные залпы, когда, с провозглашением «вечной памяти», гроб полководца на руках его соратников был опущен в могилу, которую покрыла скромная плита с простою надписью: «Здесь лежит Суворов».
Это большие люди хоронили своего великого человека.