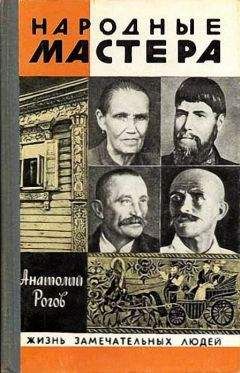Анатолий Рогов - Выбор
И самое удивительное, что в Суздале числилось всего триста тридцать четыре двора, а монастырей - одиннадцать, а церквей монастырских и приходских пятьдесят, большей частью, конечно, деревянных.
Ни один маленький город не имел столько церквей и монастырей. Стольные - да, но такие!
"Случайно ли это?" - спрашивала она себя и понимала, что никак не могло быть такое случайно. Да, когда-то Суздаль звался стольным, но как уже давно-то, основное выросло тут потом. И без воли Господа это никак не могло случиться. Это, значит, он так определил, дал такую долю сей земле и городу - святую, молитвенную! Силу, значит, дал им сугубо молитвенную, коей больше нигде нет.
И ее, значит, привел сюда не просто так, а чтобы она что-то поняла, что-то открыла для себя, как открыла лет пятнадцать назад с появлением Вассиана и Нила.
Боже мой! Как много воды утекло!
Да, она опять часто думала о Вассиане и Ниле, стала часто сравнивать их с Иосифом и осифлянами и Даниила с ними, и даже пугалась, до чего глупо и грешно было их сравнивать...
К середине великого поста небо поярчало, засинело, снег посерел, заноздрился, стал оседать, в дорожных колеях под солнышком после полудней сверкала жидкая водица, со дня на день ждали полной распутицы, все, кому надо было куда-то ехать, спешили это сделать, и в такой именно день по монастырской дорожке под ясным солнцем навстречу ей вдруг идут, судя по всему, только что пожаловавшие в Суздаль все те же самые дьяки, что добивались ее в монастыре московском, - Третьяк Раков и Григорий Меньшой Путятин. Меньшой не потому, что маленький, а потому, что и его отец был государевым дьяком. Оба рослые, налитые, сытые. Приветливо разулыбились, закланялись.
- Здравствуй, матушка София! В добром ли здравии? Государь послал проведать, как ты тут, не хвораешь ли, нет ли в чем нужды, каких просьб, желаний. Поклон тебе шлет.
А сами-то цепкими дьяческими глазами ее прямо едят, особенно на живот зыркают. А что под широким монашеским облачением можно разглядеть-то! Под ним и два живота при желании схоронятся. Однако она совершенно невольно корпусом-то чуть назад все же откинулась. На приветствие не ответила: гневом вдруг обожгло, злобою - на одного гневно глянула, на другого и сказала жестко:
- Разговора не будет! Никакого!
- Помилуй, матушка! Не своей же волей. От чистого сердца, мы ж сами...
- Плетки-то у вас нигде не припрятаны?
- Помилуй!
- Сказала, никакого! Никогда! Не пытайтесь даже приближаться.
Развернулась и ушла.
И они больше не приближались, хотя в монастыре еще мелькали, у настоятельницы были, с некоторыми старицами и инокинями разговаривали, - ей все сообщали, - а помещались у епископа, в его палатах, и игуменью туда раз вызывали.
"Как хорошо все сосчитали-то, - думала она, - когда должно свершиться-то: апрель, май. Он ведь только сам мог это сосчитать. Даже утехи с новой женой не отвлекли - не забыл. Вот как испугался! И что-то наверняка удумал уже и дальше. Что? Каким именно сестрицам велено теперь не спускать с меня глаз ни днем ни ночью? И что именно предпринять, когда начнется... Ну да кто кого! Кто кого!" В своих келейницах-прислужницах была уверена, как в самой себе, а другие...
И вдруг стала противна самой себе. Устыдилась себя.
Но что было делать? Отступать невозможно, только молить Господа о прощении...
После Пасхи все оделось нежной ликующей зеленью, вишневым и яблоневым цветом, и легкие белые церкви Суздаля, его колокольни, шатры, купола, башни, стены и все остальное сделалось как будто еще стройнее, еще причудливей, отрадней, душевней, святей.
А из Москвы пришла государева грамота, помеченная мая седьмым днем, то есть на Евсея и Савву, в коей великий князь Василий Иванович пожаловал Покровский монастырь селом Павловским Суздальского уезда: большим селом почти в девяносто дворов с тремястами крестьянами, землей, пустошами и собственным лесом. Он и раньше жаловал монастырь, делал в него вклады, но значительно меньшие, и все теперь понимали, что это ради нее, что, значит, дьяки не впустую приезжали и все про нее разведывали.
А накануне Николы вешнего Соломония сказала своим прислужницам, чтоб не тревожились и не искали ее в ближайшие два-три дня - ее не будет. Но чтобы и не скрывали, что ее нет, что куда-то отбыла, но не сказала куда и они понятия не имеют, куда именно, но обещалась вот-вот вернуться. Чтоб даже нарочно, как будто волнуясь, повторяли это кому только можно, но лишь с завтрашнего вечера, не раньше.
Сама же после обеденного сна, как всегда, пошла немного прогуляться по уже зеленому лугу вверх по Каменке, мимо больших обжигальных печей, устроенных в высоких над ней береговых обрывах, и дальше, дальше, к западной, самой небойкой суздальской дороге. Уже давно к ней присматривалась, не раз приходила. Тут редко кто ездил. А нынче в городе был базар, кто-нибудь обязательно должен был ехать.
Встала возле нее под старыми раскидистыми ветлами далеко от крайних домов, так, чтобы ее никто не видел. Листва на ветлах уже проклюнулась, и она с удовольствием вдыхала ее еще еле слышный запах. Ждала долго, пока наконец не показалась тощая лошаденка с припадающей на правое заднее колесо старой телегой и восседавшим в ней с ногами горбатым кудлатым мужиком в драном распахнутом полушубке и без шапки. Спросила, куда едет. Он оказался пьяным и, стеснительно прикрыв открытую голову рукой, сказал, что далеко, к Ставрову.
- Мне туда же. Возьмешь?
- Ой, матушка! коли б знал. - Он совсем засмущался, соскочил с телеги, запахнул полушубок, опять прикрыл голову рукой. - Вот шапка пропала... Мёд привозил...
- Так возьмешь?
В общем, поехала она с горбатым, подвыпившим мужиком неизвестно куда. Тот поначалу и не разглядел ее как следует, а когда увидел, до чего она непроста, величава, благородна и красива - за всю жизнь подобных наверняка не видывал! - кажется, малость даже перепугался, уже на ходу соскочил с телеги и большую часть пути шел, а временами и трусил с ней рядом, редко взглядывая на Соломонию и только отвечая на ее вопросы, сам ничего не спрашивал - и все больше и больше трезвел.
А она ничего не боялась, ни мгновенья; почему-то сразу почувствовав, что "попала", что Господь с нею и опять ведет куда надо, хотя дело и неправедное, но ведь только в отмщение: "Мне отмщение, и аз воздам!"
Оказалось, что мужик этот бортник, живет на краю леса, ближняя деревня не близко, но и не далеко - он доведет.
- Оттоль и до Ставрова кто ни то. Пешком тоже не близко.
А в избе у него жена да дитё, малец годовалый.
До места добрались, когда на небе догорала последняя розовая полоска заката и оно там голубовато светилось, а на востоке было густо-синим с единственной посверкивающей звездой над зубчатой грядой черного леса, по краю которого они уже давно ехали и к которому она невольно настороженно прислушивалась, потому что никогда не бывала вот так вот, почти ночью, без многолюдного окружения, возле такого бесконечного, непроглядно темного леса, полного затаенной, пугающей жизни: шорохов, посвистов, уханья, шелеста, скрипов, тресков бодрствующего зверья и хищных ночных птиц.
И в избу в глубине березовой поляны она попала в такую бедную, в каких прежде тоже никогда не бывала.
И толокно, замешенное ключевой водицей, прежде не едала, ибо никакой иной еды, кроме прошлогоднего засахарившегося меда и ржаных сухарей, у бортника не оказалось. Корова, правда, имелась, но перед отелом, без молока.
И спала Соломония впервые на голом конике, покрытом тонким рядном и накинув на ноги еще более драный, ветхий, чем у хозяина, полушубок.
Но никто никогда, кроме Вассиана, не смотрел на нее так сочувственно и понимающе, как этот горбун по имени Ипат, у которого поутру на свету глаза оказались дивно синие, совсем ребячьи, и жена его - худенькая, остроносенькая, очень услужливая и такая же, как муж, стеснительная и немногословная Вера. Они оба не задали ей ни одного вопроса. И когда горбун наладился было запрягать лошадь, чтобы везти ее в деревню, она сказала, что не торопится и нельзя ли у них побыть еще денька два, погулять по лесу, давно, мол, не бывала в лесу, а теперь май, все небось в ландышах, и соловьев, наверное, тьма.
- Есть. Все есть. Сколь пожелаешь, столь и живи! - согласился хозяин. И хозяйка тоже.
Они, видимо, решили, что она из беглых провинившихся в чем-то монахинь, про которых в самом Суздале и вокруг него было немало россказней, и ей нужно где-нибудь ненадолго спрятаться, отсидеться. И была уверена, что никогда никому и словом не обмолвятся, что привечали такую, тем более такую красивую, благородную, - ведь что там за ней, кто знает...
"А если б узнали, кто была на самом деле, ни за что бы не поверили. Или лишились рассудка... Да и кто бы поверил, что это я вот тут, в дремучем лесу, среди таких людей, хлебаю с ними из одной миски холодное, незабеленное толокно, грызу сухари, что на моих коленях прыгает их неугомонный, голопузый, голозадый, кривоногий, большеголовый, хохочущий малец с такими же дивно-синими глазенками, как у его отца, что я одна-одинешенька чуть ли не полдня бродила по совсем глухому чернолесью с глубокими сырыми оврагами и зарослями чаплыжника и нашла дорогу обратно..."