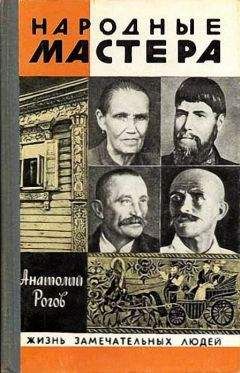Анатолий Рогов - Выбор
Некоторые не выдерживали - отворачивались. Некоторые, невольно затаив дыхание, цепенели, потом переводили взгляд на Соломонию-Софию и обратно. Чувствовали, что это так она изобразила свою душу, свой гнев и предостережение всем сотворившим и творящим зло. Небывало изобразила! Поразительно!
Все же до единого знали ее историю, а теперь знали еще и что с новой юной и, как говорила молва, необычайно бойкой и надменной женой у великого князя Василия Ивановича уже четвертый год тоже никак ничего не получается с потомством, и он с нею, как когда-то с Соломонией, опять ездит по всем монастырям, кроме суздальского, и молится святым угодникам, чтоб помогли уже ей, Елене Васильевне Глинской, опять вносит богатые вклады, чтобы и старцы неустанно молили Господа о том же, и всем епископам велено, чтоб по всем церквам молились, а в Кремль московский снова без конца приводят и приводят из разных мест и концов земли всяких знахарей, ворожей, ведунов, лекарей. Уже четвертый, а точнее-то говоря, двадцать четвертый год подряд! Хотя даже полным дуракам давным-давно яснее ясного, что дело, значит, не в Соломонии и не в новой, а в нем самом и, стало быть, безвинная Соломония страдает за него, за него >- то есть она подлинная великомученица.
Но здесь, в Суздале, ее не только жалели и негодовали, возмущались Василием, здесь все теперь хорошо видели, какую воистину природную, конечно же, самим Господом определенную государыню потеряла Русь. Какое великое преступление было совершено! Здесь все восхищались ее умом и ее речами, ее сердечностью, ее совестливостью, справедливостью, ее искусством шить, ее мастерской, ее неувядающей красотой; хоть и потяжелела, пополнела немного, но стать и величавость остались прежние, и лицо по-прежнему точеное. Здесь ею гордились и хвастались перед всеми приезжими, считая, что Суздалю и Покровскому монастырю необычайно посчастливилось, что она пусть и в полузаключении, но у них. Игуменья Ульяна считала так же и опекала ее, как только могла. Епископ, несмотря на свою дружбу с Даниилом, тоже. И не упускал случая, чтобы повидаться и поговорить с ней о чем угодно.
А Вассиан писал, что и в Москве, и при дворе о ней по-прежнему много разговоров, а он так бесконечно ею гордится и очень признателен за память о Ниле и его прославлении - это чрезвычайно важно и необходимо. Земно-земно ей за это кланялся и писал, как ему без нее в кремлевских теремах одиноко и тоскливо. И о своем "запазушном друге" писал, как тот все жиреет и наливается кровью и плетет свои хитрые тенета, в том числе и вокруг него, что государь изменился до неузнаваемости со своей новой напастью - мрачен бывает до черноты и вспыхивает, точно порох, - и, кроме бесплодия Глинской, ему на все остальное теперь наплевать.
* * *
Год уже шел тысяча пятьсот тридцатый, начало сентября.
Никакого праздника не было, но вдруг загудел главный могучий колокол Рождественского собора, через секунды затрезвонили остальные его колокола, следом в Ризположенском ударили во все, в Спасском, в других монастырях и церквах - и покатился над пропыленным и пропахшим яблоками Суздалем непрерывный, оглушающий, ликующий, будто даже приплясывающий перезвон. Все городские птицы поднялись в небо, и во всех окрестных лесах птицы и зверье небось всполошились.
Наконец услышали и у них: велено праздновать всей земле русской три дня несказанную радость и служить благодарственные молебны: великая княгиня августа в двадцать пятый день благополучно разрешилась сыном, коего окрестили Иоанном.
Первые известия о том, что Елена наконец понесла, пришли еще месяца четыре назад, но Соломония им не поверила. Потом писали и сказывали, что уже видно, что тяжелая, а все равно не могла поверить и понять, что произошло: разве только какие новые снадобья, лекарства помогли? или какой немоленный прежде святой? Но для державы-то это хорошо, это спасение! Есть чему радоваться и что праздновать и славить Бога! Слава тебе, слава, Господи!
"Хотя отцу-то, между прочим, уже пятьдесят!"
Через день она позвала монастырского плотника и велела ему в тайне ото всех спешно изготовить младенческую дубовую ладную домовинку - гробик, и показала, какой именно длины - примерно на дитя трех лет. И еще наказала, чтоб никому об этом ни слова, ни полслова, хотя хорошо знала, что мужик он пьющий и болтун, под хмелем ни за что не удержит в себе такую необыкновенную тайну про саму великую княгиню-старицу - ее уже так называли в Суздале. На то и рассчитывала. А своей задушевной помощнице Паране Лужиной поручила спешно же сшить шелковую, низанную жемчугом рубашечку на мальчонку трех лет и приготовить свивальник и все прочее для его погребения, а когда та с превеликим удивлением все это сделала, велела сладить еще подобие тряпичной куклы такого же размера, и сентябрьской теплой ночью на Агафона-огуменника позвала ее в свою моленную, где та увидела ту куклу целиком обряженную для погребения в дубовой, старательно выдолбленной и выскобленной домовинке, стоявшей на лавке, и, ничего не говоря, с глубоким вздохом только сокрушенно-многозначительно развела руками. И Параня ничего ее не спросила и так все поняла, и на глазах ее навернулись невольные слезы.
А Соломония-София протянула ей глубокую деревянную миску с разведенной, едко пахучей известью и мочальный квач...
В ту теплую ночь светил яркий молодой тоненький месяц, небо было усыпано яркими мерцающими звездами, все вокруг хорошо различалось, и, хотя перевалило далеко за полночь и весь монастырь давно спал, она попросила поднявшихся за домовинкой монастырских могильщика и привратника нести ее поосторожней и потише, чтоб ни в коем случае никого не разбудить. А тем это было очень нелегко, потому что заколоченную домовинку совсем недавно всю густо вымазали, закрасили известью, она еще не просохла, едко воняла, липла, ела глаза, и им пришлось отворачиваться. Но у крыльца домовинку поставили на покрытые белым сукном носилки и до собора донесли и в подклеть внесли уже спокойно, торжественно и тихо.
Там было, как всегда, каменно-прохладно, полутемно, в глубине справа на высоких подсвечниках горели всего две свечи, и словно изваяние, не шевелясь, у чернеющей в полу ямы ждал старенький священник с тлеющим, красновато светящимся сквозь прорези кадилом. Пахнущую известью домовинку поставили возле ямы. Крышку не открывали - известью обмазывали домовины умерших от сильных зараз: чумы, холеры, проказы.
И отпевал батюшка торопливо и коротко, спросив только имя усопшего младенца. Сказала Георгий.
Она чувствовала себя невыносимо тягостно, омерзительно, устраивая и участвуя во всем этом. Не могла поднять головы. Стыдилась безумно Параши. Остальные-то ничего не знали. Твердила и твердила про себя: "Прости! Прости! Прости меня, Господи!" - и в то же время ждала, предвкушала уже, что вот еще чуть-чуть, еще полчаса, час - и она наконец сбросит с себя эту гадость, грех, подлость и замолит, вымолит прощение. Вымолит... Очистится...
Через полчаса беленая домовинка была засыпана землей и могильщик с привратником, кряхтя, с большим трудом положили на это место тяжеленную каменную черную плиту.
Сам Покровский собор и его подклеть-усыпальница были устланы такими редкими черными плитами, на которых писалось, кто под ними лежит.
Но на этой никогда ничего не было написано.
Однако знали о необычном погребении вскоре не только его участники, с каждого из которых она взяла слово не разглашать ее тайну, и не только в Суздале.
* * *
В мае следующего года, рассказывая, как государь подробно расспрашивал о ней, епископ Афанасий легонько, довольно поглаживал свою холеную волнистую бороду; чувствовалось, что для него встреча была весьма отрадной.
- Спрашивал, как выглядишь. Сказал, маленько пополнела, но изменилась мало... Про мастерскую спрашивал.
- Вызывал только за этим? - полюбопытствовала Соломония.
- Не-е-е, митрополит Даниил вызывал на суд князя-инока Вассиана Патрикеева.
И стрельнул в нее глазами - какое произвел впечатление! Знал об их большой дружбе.
А ее как ножом полоснули по сердцу, похолодела вся, и слезы навернулись невольные. Ждала, ждала она этого после его писем, готовилась к этому, но все равно стало невыносимо тяжко.
- За что судили?
- За ереси.
- Его?!
- Да. Сам митрополит обличал. Говорил-де Вассиан, что у Христа лишь одна природа - божественная, нетленная, хотя всем ведомо, что обладал двумя: божественной и человеческой. А он: аз, господине, как дотоле говорил, так и ныне говорю - плоть господня нетленна до гроба и во гробе нетленна. Ничего не признавал. Держался надменно. Язвил. Насмешничал. Чудотворцев называл смутотворцами. Правило - кривилом. Твердил, что в Евангелии писано: не велено сел монастырям держати. Митрополит во многом подробно его обвинял по святым писаниям, даже слова-де он некоторые неправильно писал. А он в ответ все ему через губу, все с усмешкой: "ино, господине, ведает Бог, да ты со своими чудотворцами". Разозлил всех донельзя. Митрополита ни разу святителем не назвал, лишь господине, господине...