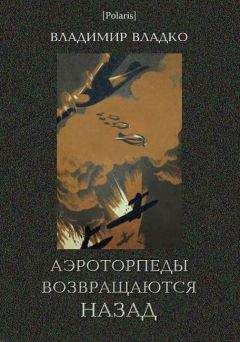Болеслав Маркевич - Четверть века назад. Часть 1
Надежда Ѳедоровна-Гертруда не портила, хотя нѣсколько мямлила и, съ непривычки, не знала куда дѣвать руки. Въ знаменитой сценѣ съ сыномъ она была холодна, и холодила Гундурова, что приводило его въ отчаянье. — „Погоди, утѣшалъ его Ашанинъ, — я вотъ ее въ самый день представленія самымъ жестокимъ образомъ разогорчу, и она будетъ тебѣ ныть отъ начала и до конца роли“… Онъ и не предчувствовалъ какъ пророчески должно было сбыться его обѣщаніе!..
Зяблинъ въ роли Клавдіо былъ почти хорошъ. Его Печоринскіе взгляды изъ подъ низу, сдобный голосъ и изнѣженные пріемы при разбойничьемъ лицѣ довольно близко подходили подъ типъ того лицемѣрнаго сластолюбца, игрока и бражника, „благочестивымъ видомъ сумѣвшаго обсахарить скрытаго въ немъ дьявола“, какимъ Шекспиръ изобразилъ Гамлетова отчима. Но, этого сахара перепускалъ онъ подчасъ уже столько что „фанатикъ“ Вальковскій не выдержалъ однажды, и крикнулъ ему изъ кулисы: „да что вы, батюшка, злодѣя играете, или патоку сосете?“ — на что Зяблинъ только уныло плечами повелъ, и глянулъ на бывшую тутъ княгиню, а она, въ свою очередь, обиженно вздохнула, глянула на князя Ларіона и проговорила раздувъ ноздри: „ne remarquez vous pas, Larion, que ce monsieur est très mal élevé?… Самъ „фанатикъ“ въ „молодой роли“ Розенкранца былъ невыразимо смѣшонъ, и потѣшалъ Ашанина до истерики: онъ сжималъ губы сердечкомъ, щурилъ глаза, подбоченивался фертомъ, и напускалъ удали и молодечества тамъ гдѣ, ни по характеру лица которое онъ игралъ, ни по смыслу положенія, и тѣни не требовалось чего-либо подобнаго. — „Эко чучело, эка безобразина!“ хохоталъ Ашанинъ послѣ каждаго выхода его на сцену. Но Вальковскій не смущался: „погоди, братъ, отвѣчалъ онъ ему съ торжествующей улыбкой, — пріѣдетъ Василій Тимофѣевъ, онъ меня не хуже тебя красавцемъ роспишетъ!“ Василій Тимофѣевъ былъ театральный парикмахеръ, большой искусникъ своего ремесла, и закадычный другъ Вальковскаго, возлагавшаго на него на время своихъ отсутствій по театрикамъ „всѣ свои дѣла, — а въ томъ числѣ и надзоръ за «Маргоренькой», ужасно рябою, и столь-же легковѣрною швеей, которую «фанатикъ» готовилъ на сцену, на роли свѣтскихъ кокетокъ…
Извѣстно что ничто такъ скоро и коротко не сближаетъ молодежь какъ любительскіе спектакли. Короткости между нашими актерами содѣйствовало еще и это ихъ совмѣстное житье въ Сицкомъ, въ богатомъ, привольномъ домѣ, гдѣ каждому предоставлялось брать на свою долю настолько удовольствія, насколько хватало у него на это силъ и желанія. Княгиня Аглая, въ подражаніе своимъ англійскимъ образцамъ, предоставляла гостямъ своимъ полную свободу:- они цѣлымъ обществомъ, дамы и мужчины, катались верхами, удили рыбу, ѣздили по вечерамъ въ дальнія прогулки, въ которыхъ не всегда принималъ участіе князь Ларіонъ, а сама хозяйка никогда. Лѣнивая и отяжелѣвшая, она почти не выходила изъ своего будуара, гдѣ съ утра до вечера пила чай въ компаніи неизбѣжнаго Зяблина, и куда, разумѣется, никому не приходила охота идти ее тревожить. Только по утрамъ Лина являлась съ «bonjour, maman», цѣловала ей ручку, — и почти тотчасъ-же уходила. Мать почти никогда не говорила съ ней, не потому чтобы имѣла какія-нибудь причины недовольства ею, а просто потому что не находила предметовъ разговора съ дочерью. — «Elle est trop sérieuse, повѣряла она „бриганту“, вздыхая и томно улыбаясь, — elle n'а pas d'enjouement dans le caractère comme moi!»… Потомъ приходилъ князекъ, сынъ ея, разодѣтый какъ на картинкѣ, съ mister Knocks'омъ, который ни на какомъ, кромѣ англійскаго, языкѣ не говорилъ, и котораго она, и съ воспитанникомъ его, отпускала также очень скоро, потому что никакъ не могла сказать ему того что хотѣла, — да Ольга Елпидифоровна по нѣскольку разъ въ день забѣгала къ ней подъ разными предлогами, тѣша ее своими жантильесами. Смышленная барышня, отчаявшись вернуть себѣ расположеніе князя Ларіона, — онъ вовсе пересталъ даже говорить съ нею, — заискивала и юлила теперь передъ княгиней болѣе чѣмъ когда-нибудь… Въ тоже время она всячески набивалась въ наперсницы къ «другу своему, Линѣ», и хотя это ей очень мало удавалось, — княжна, какъ она ни билась, не дѣлала ей никакихъ конфидансовъ, — она сама отъ себя, изъ злости къ «противному старикашкѣ», употребляла всякія усилія и средства чтобы «сближать» Лину съ Гундуровымъ: старалась находить случаи когда бъ они могли быть подолѣе вмѣстѣ, искусно отводила тѣхъ которые могли бы помѣшать ихъ бесѣдѣ когда представлялись такіе случаи, распоряжалась такъ чтобъ нашему герою непремѣнно досталось мѣсто подлѣ княжны на линейкѣ, которая везла ихъ въ лѣсъ или на тоню, на Оку… Княжна, по видимому, не замѣчала этихъ услугъ, и даже большею частью не пользовалась тѣми «удобными» случаями, которые ловкая особа доставляла ей въ возможномъ изобиліи, — но не всегда-же она отъ нихъ уходила, не всегда-же находила силу избѣгать ихъ… Иногда, на лету, глаза ея встрѣчались съ глазами Сергѣя, съ глазами полными безконечной мольбы, — и безвластно шла она занять подлѣ него мѣсто въ экипажѣ, и долго потомъ ѣхали они молча, и не смѣя уже болѣе поднять глазъ другъ на друга. И что бы въ эти минуты могли они другъ другу сказать? За нихъ говорила вся эта молодая природа что цвѣла и пѣла вокругъ нихъ, окропленная живительною влагой, озаренная солнцемъ весны: широкая даль рѣчнаго разлива, сладкій шелестъ молодыхъ дубовъ, соловей урчавшій въ кустѣ дикой малины, мимо котораго, когда на померкавшемъ небѣ загоралась первая звѣздочка, проѣзжали они на возвратномъ пути въ усадьбу…
XXIV
Они ѣхали такимъ образомъ однажды рядомъ, въ большомъ обществѣ. Сидѣвшій спиною къ нимъ по другой сторонѣ линейки Духонинъ, вдохновленный красотою вечера, читалъ нѣмецкіе стихи сосѣдкѣ своей, Надеждѣ Ѳедоровнѣ.
— Ich hatte einst ein schönes Vaterland.
Das Eichenbaum
Wuchs dort so hoch, die Veilchen nickten sanft, —
Das war ein Traum, —
донеслось до слуха ихъ.
— Это изъ Гейне…. И прелестно! молвилъ Гундуровъ.
Духонинъ продолжалъ:
— Es küsste mich auf deutsch, und sprach auf deutsch:
(Man glaubt es kaum
Wie schön es klang) «ich liebe dich»…
Das war ein Traum!..
— Здѣсь… въ отечествѣ, лучше! проговорила вдругъ Лина какъ бы про себя, какъ бы отвѣчая на какой-то свой собственный, не выговоренный вопросъ.
У Гундурова забилось сердце — онъ вспомнилъ тотъ первый ихъ разговоръ, — это былъ теперь для него отвѣтъ на то, до чего еще безсознательно допытывался онъ тогда…
— Лучше, Елена Михайловна? повторилъ онъ, стараясь заглянуть ей въ лице;- лучше?…
Но она не отвѣчала его взгляду. Ея синіе, задумчивые глаза глядѣли впередъ на бѣдное селеніе, на которое они держали путь; хилыя очертанія его почернѣвшихъ соломенныхъ крышъ вырисовывались уже отчетливо изъ за пригорка въ багровыхъ лучахъ заката….
— Да, сказала она, не оборачиваясь, и откидывая вуаль, которую вѣтеръ прижималъ къ ея лицу, — тамъ въ Германіи, въ Европѣ,- все такъ узко…. Покойный папа говорилъ: тамъ перегородки вездѣ поставлены… А здѣсь… Здѣсь какимъ-то безбрежьемъ пахнетъ…
— У васъ удивительныя свои выраженія, княжна? вскликнулъ Гундуровъ.
Она опять улыбнулась, все также продолжая не глядѣть на него.
— Я знаю, я очень не хорошо говорю по русски; я совсѣмъ еще по писанному говорю… Но съ вами — голосъ ея чуточку дрогнулъ — я не могу говорить не по-русски…
— Вы удивительное существо, Елена Михайловна! съ юношескимъ восторгомъ заговорилъ Сергѣй;- вы, воспитанная на Западѣ, въ чужеземныхъ обычаяхъ и понятіяхъ, вы какимъ-то чуднымъ внутреннимъ чутьемъ проникаете въ самую глубь, въ самую суть предмета… Да, въ Россію надо вѣрить! Тамъ все сказано, все отмѣряно, вездѣ столбы и «перегородки» поставлены, и народы доживаютъ, задыхаясь, въ путахъ бездушной, тѣсной, матеріальной, переживающей себя цивилизаціи… Наше будущее «безбрежно» — какъ это вы прекрасно сказали! — какъ и наша природа. Намъ, славянскому міру, суждено сказать то послѣднее слово вѣчной правды и любви, на какое уже не способенъ духъ гордыни и себялюбія западнаго человѣчества…
— А пока, засмѣялся вдругъ Духонинъ, прислушивавшійся со своего мѣста къ ихъ разговору, — а пока, любезный другъ, соберемся мы сказать это слово, мы какъ оказывается, и самовара-то нашего выдумать не умѣли, и «народы» наши (онъ повелъ при этомъ рукою на жалкую деревушку мимо которой проѣзжали они) живутъ чуть-ли не безпомощнѣе и плачевнѣе чѣмъ это «западное человѣчество» въ пору каменнаго вѣка.
Гундуровъ досадливо обернулся къ нему:
— Не среди мраморныхъ палатъ царственнаго Рима, молвилъ онъ съ сіяющими глазами, — не мудрецами вѣровавшими въ его вѣчность найдена была та божественная истина что должна была спасти и обновить погибающій міръ: возглашена была она устами нищихъ рыбаковъ далекой страны, которую точно также за бѣдность ея и невѣжество презирали кичившіеся богатствомъ своимъ и культурою избранные счастливцы того вѣка!