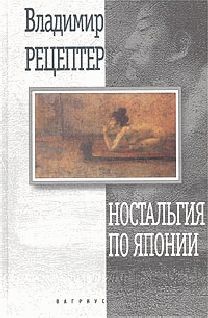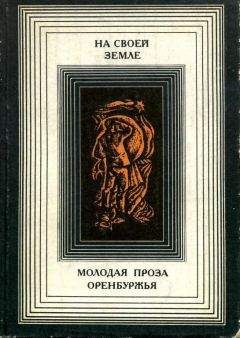Петр Краснов - Понять - простить
— Это Лотосов с графиней, — сказал Синегуб.
Из автомобиля высунулась женская голова в траурной шляпе с креповой вуалью.
Ара всмотрелась и вышла из каретки.
— Противное ощущение, — сказал Алик, — я никогда не присутствовал при смертной казни, но думаю, что должно быть что-нибудь подобное.
— Дуэль не смертная казнь, — сказал Лобысевич-Таранецкий. — Это великое дело чести.
— Такая дуэль… — сказал Алик, дергая плечами… — Я не могу себе простить, что согласился. Графиня, вы его не видали?
— Нет.
— Он должен был выйди на станции "Jasmin", — сказал Синегуб, — и по rue de l'Yvette, rue Docteur Blanche и rue de Raffet выйти к укреплениям, а затем идти к скачкам.
— Он не заблудится? — спросил Лобысевич-Таранецкий. — Он не знает Парижа.
— Тут невозможно заблудиться. Все дороги ведут к Булонскому лесу.
Помолчали. Князь Алик пытался механической зажигалкой раскурить трубку. Но она не зажигалась.
— Позвольте, я вам дам огня, — сказал Синегуб. Когда подносил спичку, руки у него тряслись, и он не мог попасть на табак.
— Благодарю вас, — сказал Алик. — Который, господа, однако, час?
— Ровно двенадцать, — отозвался от руля такси Лотосов.
— Что же, господа, пойдемте, — сказал Синегуб. Голос его дрожал и вместо «пойдемте» вышло "пой-де-ум-та"…
— Не было слышно выстрела, — сказал Лобысевич-Таранецкий. — Мы можем ему помешать.
— Ах! Если бы так! Идемте скорее, — сказал Алик. — Мы остановим его. Мы вырвем у него из рук револьвер.
Алик побежал, за ним — Ара, несколько сзади — Лобысевич-Таранецкий и Синегуб. Лотосов зажег огни мотора и тихо ехал, освещая мокрое, грязное шоссе. Справа тянулся забор, слева шумели сосны. Они возникали в лучах автомобильных фонарей красными стволами и потом пропадали. Дорога сначала поднималась, потом пошла ровно. За группами голых деревьев показались высокие постройки скаковых трибун. Днем там шел спешный ремонт, и остались кучи щебня и песку, темные решета и бочонки.
— Вот он, — воскликнул Синегуб, указывая на лежащего, на куче песку человека.
Ара вцепилась в руку Алика. Синегуб споткнулся о доску и едва не упал.
— Нет, не он. Это сторож или рабочий, — сказал Лобысевич.
— Осветите огнем, дайте фонарик, — бормотала Ара и вся тряслась.
Лежащий зашевелился и сел. Он оказался стариком в свалянной шапке и лохмотьях. При виде идущих к нему он поднялся и, шатаясь, пошел к постройкам.
— Где же искать? — сказал Синегуб, — нигде не видно скамеек.
— А почему вы думаете, что он на скамейке? — спросил Лобысевич-Таранецкий. — Разве он не может быть у дерева?.. под деревом? Разойдемся цепью. Осмотрим лес.
Ара шла, не расставаясь с Аликом. Маленькие туфли тонули в мокром мху и старых листьях. От лунного света все казалось таинственным и страшным. Лотосов направлял на лес фонари мотора, и сосны сияли, как красные леденцы. Лес был пуст. Обошли оба лесных острова, спустились к озеру. Нигде — никого.
— Что же это значит? — сказал Алик, и в его голосе зазвучала жесткая нота раздражения. — Не может быть, чтобы он не туда попал.
— Просто совсем не пришел, — едко сказал Лобысевич-Таранецкий. — Мальчик со смыслом. Ищи ветра в поле.
— Никогда Светик так не поступит, — возмутилась Ара. Но в ее голосе не было уверенности.
Минуту тому назад она молилась, чтобы ничего не было и Светик остался жив. Сейчас была разочарована, что не нашла его трупа.
— Мы плохо искали, — сказала она.
— Не иголка. Видно далеко, — сказал Лобысевич-Таранецкий. — Не то, что убитого человека нашли, зайца и того не пропустили бы.
— Значит, не там искали, — сказал Алик.
— Выстрела не было слышно, — сказал Лобысевич-Таранецкий.
— Вот так здравствуйте, пожалуйста, — проговорил вдруг успокоившийся Синегуб. — Остались мы в дураках. Стоило волноваться! Графине траур покупать.
— Он идет графине, — насмешливо сказал Лобысевич-Таранецкий. — Графиня может носить его как траур по разбитому идеалу.
— Что же, господа, по домам, — сказал Синегуб, — попросим его превосходительство развезти нас.
— Постойте, господа, — сказала Ара. — Заедем в гостиницу. Там спросим, уехал или нет. Где он? Может быть, лежит больной.
— Медвежья болезнь одолела, — сказал Лобысевич-Таранецкий.
И умолк под гневным взглядом графини.
Луна по-прежнему светила над темными гущами Булонского леса, пахло весенней сыростью, зарождающейся почкой, очнувшейся от сна землей, молодыми корнями трав. Задумчиво шептались в вышине сосны. Сзади глухо шумел и ночью не угомонившийся Париж. По эстакадам Exelmans'a пронесся поезд. Сверкали в воздухе между деревьями блески огней ярко освещенных вагонов. Долго в ночной тишине гудела потревоженная земля.
Когда набились в каретку такси и Алик закурил трубку, все весело заговорили.
— У меня, господа, признаюсь откровенно, — сказал Алик, — точно камень с души свалился. Я так боялся, что увижу его труп. Так мне стало его жалко. Я всю ночь не спал. Знаете, если бы мне сказали — мне умереть, а ему жить — право, пусть живет, но не было бы греха на моей душе.
— И я счастлива, — сказала Ара. — Пусть живет. Живому псу лучше, чем мертвому льву.
— Живому псу… — подхватил ее слова Лобысевич-Таранецкий. — Но тогда, графиня, ваш Светик заслужил то слово, каким его обозвал Серега.
— А Серега со своей пощечиной остался в дураках, — сказал Синегуб.
Опять замолчали. Загадка, загаданная неисполнением Светиком его слова, казалась неразрешимой.
— Как же, господа, быть с Серегой, — сказал Лобысевич-Таранецкий. — В конце концов, он получил оплеуху и ходит с ней, а оскорбивший смеется и над ним, и над нами.
— Погодите, господа, сейчас все разъяснится, — сказал Алик. — Нечего загадывать вперед. Мало ли что могло помешать Светику?
До самой place de Strassbourg молчали. У отеля, в ночном открытом баре, за столиками сидели солдаты в голубых шинелях и круглых каскетках, пили пиво, вино и гренадин, с ними были девицы, тут же толпились какие-то подозрительные личности. Весело звучали голоса.
Среди множества вывесок едва отыскали скромную надпись "Grand Hotel" я. Узкое крыльцо со стеклянной дверью было освещено. Две горничные прибирали в столовой. В маленькой комнатке у входной двери сидела француженка и считала выручку.
Появление на лестнице трех мужчин и дамы в трауре привлекло конторщицу и горничных к дверям. Хорошенькие, с тонкими ножками в башмачках и с темными волосами, по моде начесанными на уши, они показались Синегубу хористками какой-то оперетки. Он уже готов был перемигнуться с ними, когда услышал, как конторщица говорила Алику.
— Oh! Monsieur! (Сударь! (фр.)) Такое несчастье!.. У нас в отеле, слава Богу, никогда такого не бывало. Ваш компатриот сегодня утром, около десяти часов, в номере застрелился.
— Где он?
— Мы его отправили в морг. Нельзя в гостинице. И без того такое свинство. Все одеяло в крови. Такое одеяло теперь за двести франков не купишь.
— Он оставил письма?
— О да! Одна записка, как всегда, о том, чтобы в смерти никого не винить, и еще большой пакет с марками, адресованный в Югославию.
— Где же этот пакет?
— Его взяла полиция. Такой скандал… Такой скандал! И все в том же номере… Такой роковой номер.
— Как же это, господа, — начал Лобысевич-Таранецкий, — Кусков не имел права раньше времени…
На него так посмотрели, что он осекся и, отвернувшись, закурил папиросу.
— Царство ему небесное, — дрожащим голосом сказал Алик.
Ара разрыдалась и с громкими всхлипываниями пошла к такси Лотосова.
— Довезите меня, князь… Побудьте со мной… Я не могу одна, — сказала она Алику.
Любопытные солдаты собирались у крыльца. Слышались едкие французские шутки… Лобысевич-Таранецкий и Синегуб переходили улицу, направляясь к вокзалу, где стояли такси.
Луна высоко висела над городом. Boulevard de Strassbourg был в цветных огнях и толпах народа. Такси длинными вереницами неслись туда и назад. Мелодично журчали колеса по мокрым торцам.
Ночной Париж жил полной жизнью.
Часть вторая
I
Когда на плечах девятнадцать лет, когда знаешь, что высок, строен, гибок, изящен и красив, — жизнь улыбается и сквозь черные тучи революции. Смерть и муки окружающих кажутся лишь острой подробностью интересного времени, посланного Богом. И все весело, все радостно, как погожий весенний день. Страхи и тревоги проходят быстро, как летняя гроза.
Так переживал революцию второй сын Федора Михайловича — Игорь, Игрунька.
Похожий на отца, когда тот был юнкером, рослый красавец со светлыми голубыми глазами, с точеным овалом лица, сомкнутым, энергичным, волевым подбородком, — он был создан носить красивый мундир, нравиться женщинам, ухаживать и любить.