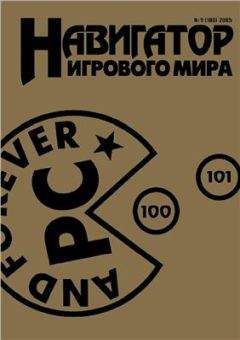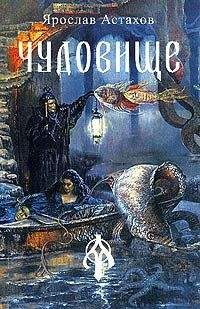Иван Панькин - Начало одной жизни
Бежал я туда, не чуя своих ног. Вот и оно, мое родное село Чумаево. Над рекой дубки, кустарнички, стежки-дорожки. Они остались такими же, какими я их видел несколько лет назад, только деревья и кустарники, кажется, как и я, немного подросли. Наш домик стоял так же кривобоко, и крыша по-прежнему была взъерошена.
У меня глаза застилали слезы. Я вытер их рукавом и хотел открыть двери, но они были заперты. Я постучался.
- Кто там? - раздался старушечий голос. - Хозяев нет дома.
Я постоял, постоял, снова начал стучаться. Наконец послышалось кряхтенье и шарканье ног.
- Кого нужно? - высунувшись из двери, спросила седая старуха.
- Тетю Дуняшу мне надо.
- Эко схватился-ко ты, ее уже давно нет. Как похоронила своего мужа, так сразу уехала.
- Куда же уехала?
- Бог его знает. Теперь уж не припомню. А ты чей-то будешь?
Я не стал ей отвечать, сразу же отошел от дома.
"Что же мне теперь делать? Возвращаться в Мокшанку? Ни за что. Поеду в колонию", - решил я.
Вышел на большак и направился в сторону станции.
До станции было километров тридцать, я не успел добраться и до половины пути, как меня на лошади догнал дядя Гордей.
- Ты куда направился, мерзавец? - закричал он.- А ну, сейчас же вернись обратно!
И так опоясал меня кнутом, что я изогнулся змеей.
Дома дядя Гордей закрыл меня в чулан и сказал:
- До тех пор не выпущу, пока не сплеснеешь здесь.
Два дня я сидел в чулане, на третий принесли от учительницы записку, и дядя Гордей отправил меня в школу.
Собственно, и в школу мне идти было неохота. Учительница стала меня бранить, что я не делаю домашних уроков. А делать их было некогда, тетя все время находила по горло работы: то свинарник вычистить, то напоить коров, то убрать за ними или подмести пол. А весной, когда начались полевые работы, тетя совсем запретила учиться.
Вообще, по теткиному мнению, сейчас в школе не учат добру.
- Вот Манька, Парфеныча дочь, - говорила она, - была девка как девка, а поучилась в Москве, так совсем испортилась в церковь не стала ходить, да еще мужиков начала смущать супротив бога. Не к добру, не к добру, - сокрушалась тетка Матрена, - совсем испортились люди. Дети стали учить стариков, а старики тоже с ума начали сходить, говорят о каких-то колхозах, не стали почитать богатых людей, которые их, дьяволов, кормили весь век.
Слово "колхоз" гирей висело над семьей Каргиных, они даже видели его в страшных снах. От этого слова дядя Гордей похудел, его живот спал и болтался, как неполная торба, а круглый подбородок стал похож на коровье вымя. Но на вид он был весел. По-прежнему собирал мужиков, делал попойки и так же клялся в любви к коммунистам. А когда разговор заходил о колхозах, то он говорил:
- Что ж, неплохо будет. При колхозах все: и скотина и бабы будут обчие. Если тебе не нравится такой закон, то костери правителей, а я, брат, поступлю по закону.
Как ни красочно говорил дядя Гордей, а все же мужики туго воспринимали его речи.
Однажды ночью меня разбудил дядин надрывающийся голос.
- Я тебе говорил, - орал он на тетю, - не надо трогать этого псенка, а ты свое: Остужев, Остужев, сын комиссара, громкая фамилия, с ним не тронут! Вот тебе и не тронут! Напрасно только на него потратились!
- Дьявол безрогий! - вопила в ответ тетка Матрена. - Я тебе говорила, что надо уехать, уехать отсюда, а ты не можешь расстаться со своим дерьмом!
- Куда уедешь?! - шипел на нее дядя. - Теперь везде идет такая заваруха, везде ставят эти проклятые колхозы. Нешто в Америку? Ну, уж я не такой, я зубами уцеплюсь за российскую землю. Я им ни крошки не дам, все изничтожу.
Так шумели они до утра. Утром те же мужики, которым он рассказывал ужасные небылицы о колхозах, конфисковали все его имущество.
Дядя, на удивление всем, даже глазом не моргнул.
Сам, собственной рукой отдавал все до последней седелки, до последней мелочи, что находилась в его обширном хозяйстве. Затем взял в совете справку, что воспитывает сына комиссара Остужева, и нам с теткой приказал ехать к его родственникам в село Гречиха. Но по пути тетя свернула в противоположную сторону, и ночью какими-то лесными дорогами мы проехали на станцию Козлове, где нас ждал дядя Гордей.
- Ну как? - кивнув головой назад, в свою очередь спросила тетя.
Дядя исподлобья посмотрел на нее и ответил с каким-то злорадством:
- Совет не пришлось, помешали, изверги, а на наш дом все-таки пустил красного петуха.
Я тогда не понял, о каком петухе говорил дядя Гордей, поэтому их разговор пропустил мимо ушей. После загадочного объяснения с тетей Матреной дядя Гордей сбросил меня с подводы, взял сундучок и затрусил к вокзалу,
- Куда же теперь-то? - опять спросила тетя Матрена.
- К киргизам, - ответил из темноты дядин голос, - там, говорят, еще нет колхозов.
Я машинально тоже пошел за ними, но дядя, увидев меня, остановился и процедил сквозь зубы:
- А ты куда плетешься, щенок? Вон, езжай обратно, там, наверное, для тебя уже организовали колхоз.
Я еще шел за ними.
- Вон отсюда, гаденыш, изувечу! - снова прошипел дядя Гордей и скрылся за углом какого-то большого здания.
Мне не жаль было своих родственников, но страшно оставаться одному на незнакомой станции ночью. Если бы со мой был Володя или Петька, пусть даже трусиха Люся, если б рядом я чувствовал чье-нибудь дыхание...
У меня дрожали колени. Мороз ходил под рубашкой, я боялся сдвинуться с места. Но, когда наконец страх в моей душе свернулся в комочек, я подумал: "А чего, собственно, мне трусить, не оставался я один, что ли? Поеду в колонию", - и направился к станции.
Проходя мимо пассажирского состава, увидел табличку, на которой было написано название того города, где находилась Соколинская колония. Состав тронулся, табличка поплыла в темноту. Я не мог оторваться от нее и бежал вслед за вагоном. И вот, не соображая, что, может быть, поезд идет в противоположную сторону, я уцепился за ручку и прыгнул на подножку вагона. Но, к моему счастью, на другой день я увидел знакомый вокзал, откуда колонисты провожали меня в Мокшанку.
В колонию я летел, как птица, не замечая прохожих, машин и пролеток. Вот и знакомые ворота, останавливаюсь перед ними и думаю, куда пойти - сразу к своим друзьям или сначала к заведующему? Нет, пусть дежурный о моем приезде доложит сначала заведующему. Иду к главному зданию. Открываю двустворчатую дверь, захожу в вестибюль.
Но что такое? Тишина. Как будто здесь все вымерли.
Почему не слышно ребят? Вместо ребят ходят по вестибюлю какие-то люди с папками.
- Мальчик, кого тебе нужно? - окликает меня плюгавенький старичок с жидкой серой бородкой.
- Мне? Я к заведующему, я снова пришел.
- К какому заведующему тебе нужно? Здесь ведь столько разных заведующих, их хоть бреднем бреди.
- К заведующему колонией.
- Вот оно что. Так ведь, дорогой приятель, теперь здесь не колония, а коммунальное учреждение, да-а. Колония отсюда переехала.
- Куда же переехала?
- Куда-то в теплые края.
"Вот тебе и раз! - подумал я. - Что же мне теперь делать?"
- А куда же все-таки уехали? - снова спрашиваю у старика.
- Правда, и сказать не могу, дорогой. Подожди-ка, я спрошу у начальства, им должно быть известно.
Старичок закрыл маленький шкафчик со стеклянной дверцей, через которую были видны разных фасонов ключи, затрусил в глубь здания. От нечего делать я стал рассматривать на стенах картины и плакаты. Среди них я увидел знакомую уже мне картину: реющие чайки над бушующим морем. Но эта картина была нарисована гораздо лучше, чем та, которую я смотрел в изокружке.
- Никто путем не знает, мил-человек, - сказал, подойдя ко мне, старичок. - Кто говорит - в Киев, кто - в Харьков, вот и пойми их.
"Куда же теперь мне податься?.. А вот куда, - посмотрев на картину, решительно подумал я: - поеду за тетей Дуняшей в гости к белокрылым чайкам".
НА МОРЕ
К БЕЛОКРЫЛЫМ ЧАЙКАМ
- Эй, пацан, ты что под вагон забрался?
- Как - что? Я еду.
- Куда ты едешь?
- А в это самое... как его... на море.
- А ну, вылазь сейчас же, разве не видишь, что состав загнали в тупик?
- Зачем в тупик?
- Затем, что не пойдет дальше.
Из тесного и пыльного собачьего ящика с опаской выглянул чумазый мальчик. Он оглядел стоявшего около вагона человека с длинным молоточком в руках. Видя, что его не собираются хватать за шиворот, мальчик спокойно вылез из ящика и подался вдоль железнодорожного полотна к громадному белому вокзалу, ругая железнодорожников за то, что они выдумали для проезжающих посадки, пересадки и все такое прочее. И как было ему не ругать их: лежа в ящике, он еще сколько времени продержался бы без еды, а теперь волей-неволей приходилось идти на добычу.
Мальчик подошел к крану, над которым крупными буквами было написано "холодная", ополоснул руки, лицо и хотел было направиться к стоявшим у перрона составам, как за его спиной раздался густой бас: