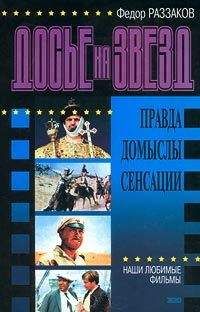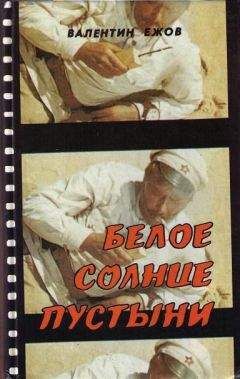Степан Злобин - Остров Буян
— Все имяны поставим! — крикнули из толпы.
Кто-то подтолкнул Томилу за пустовавший ларь, кто-то готовно подсунул скамью.
— Доставай бумагу! Пиши: «Смилуйся, государь великий, пожалуй, уйми лиходея-мздоимца Федора Омельянова и твоего воеводу князь Алексея!» — внятно сказал хлебник Гаврила.
— «Как мурзы[135] татарские, городом правят», — подсказывали Томиле.
— Да не забудь написать: «Подручный того Омельянова площадной подьячий Филипка с ними вместе стоит в воровстве!» — кричали из задних рядов окружавшей Томилу толпы.
— Пиши: «Ты бы, государь, повелел их схватить и казнить их смертью…»
Но Томила не слушал подсказок. Перед его глазами столбец за столбцом развертывалась «Правда искренняя».
Особое вдохновение рождалось в его душе от сознания того, что он писал не «в сундук», а к самому царю, в которого верил Томила, как верил и весь народ.
Все ночные сердечные муки, рожденные от сознания бесплодности собственных мыслей, вырвались из души. Писавшая рука дрожала от волнения, и ему казалось, что вот-вот от пламени слов задымится бумага и вспыхнет в руках перо.
Пока он писал, вокруг собралось еще человек полтораста прохожих. Узнав, что тут составляется челобитье к царю на Емельянова, они задержались, бросив свои дела.
— Читай, чтобы ведали все, — сказал хлебник. И Томила, вскочив на ларь, звучным голосом, как молитву, стал читать вслух. Толпа застыла, словно захлебнулась молчанием, боясь проронить слово. Когда Томила кончил читать, общий вздох заключил его чтение.
— Аминь! — в тишине произнес поп Яков.
— Приписи ставьте. Кто первый? — вызвал Гаврила.
Толпа замялась и подалась назад. Все вдохновенно слушали обличающие слова челобитья, но словно только теперь ощутили, что от каждого из них требуется подпись.
— Что же вы? — поощрил Томила.
— Под эко писанье припись не шутка! — заметил один из посадских.
— Да ты сам меня звал писать. Кричали: «Всем городом»! — подзадорил Томила.
— А что ты писал?! Что писал?! — напал на Томилу мясник Леванисов. — Тебе одно бают, а ты свое ладишь… Про воеводу ишь слов насказал, что вымолвить страх!..
— Предерзко писал, а лепо. Так и надо, — отозвался поп Яков.
— Пишись, коль, батюшка, первым, — с поклоном сказал Гаврила Демидов.
— Я поп, а тут мирские дела. Мне владыка за экую припись все ребра жезлом сокрушит и башку своротит. Пишись-ка, Гаврила, сам.
— Я напишу — помыслят, что из корысти: я побил приказчика за обвес, — возразил хлебник. — Иной бы кто, а я — во вторых.
Томила обвел толпу взглядом. Он увидел, как двое посадских, подталкивая друг друга локтями, прячутся и отступают.
«Двое уйдут, а за ними и все растекутся!» — подумал он в страхе, что все вдохновенные строки его загинут даром. Он обмакнул перо и, стоя над толпой на ларе у всех на виду, внизу челобитной первый вписал: «Составлял челобитье старшина площадных подьячих Томилка Слепой». И он протянул Гавриле перо.
— «Гаврилка Демидов», — вторым вписал хлебник и тем же движением молча подал перо попу.
Поп Яков махнул рукой, решительно подписался и сунул перо старшине кузнецов Михайле Мошницыну.
Так начались сборы подписей под всенародное челобитье на Федора Емельянова и воеводу князя Алексея Лыкова.
Глава десятая
Псковское челобитье на Федора Емельянова и воеводу Лыкова повез в Москву тайный посланец посадского Пскова сапожник Тереша. Не раз уже с сыном он уходил в Москву к празднику чеботарить[136] по большим торгам. Возвратясь домой, они приносили с собой столько денег, что целый месяц семья была с хлебом и мясом…
Тереша и сын его, сидя в Москве на широком торгу, ковыряя шилом убогую обувь, пока заказчик стоял на одной ноге, прислонясь к ларю или лавке, говорили с ним о московских делах и порядках, узнавали, кто нынче силен в Москве, кто в чести у царя, кто из бояр принимает беглых посадских в заклад и какой из московских купцов богаче торгует.
Придя в Москву в этот раз, чеботарь не спешил сбыть свое челобитье. Он узнавал и щупал, кто всех сильней в соляных делах, чтоб зря не сгубить деньги, принесенные в посул. Четыре имени называл московский народ: боярина Бориса Морозова, думного дьяка Назария Чистого, окольничих Плещеева и Траханиотова. «Четыре кита, на коих земля стоит», — горько шутили в народе.
Чеботарь чинил обувь малым посадским людям, мелким подьячим, псаломщикам и стрельцам. Работа была грошовой: подбить каблук, наложить заплатку на валенок — все, что ему доставалось; по полденьги, по деньге стоил каждый заказ. Никогда не случалось Тереше, чтобы к нему подошел с заказом богатый посадский, приходский поп или стрелецкий десятник[137]… И вдруг однажды, чуть-чуть не смяв его и заказчика добрым конем, перед ним соскочил молодец дворянского вида.
— Чеботарик, живо! — воскликнул он, сдернув с ноги сапог с болтавшейся попусту шпорой. — Мне дале скакать, ан скакальная снасть изломалась, — весело объяснил он. — Изладь в сей миг!..
Бросив валенок, который держал до того в руках, Тереша поспешно взялся прилаживать шпору.
Красавец молодчик кинул ему алтын за работу, лихо вскочил на коня и, гаркнув, пропал в толпе.
— Вот ирод! Силен на Москве человек! — вслед ему с почтением заметил старичок пушкарь, снова стягивая с ноги свой недочиненный валенок.
— Большой дворянин? — спросил чеботарь, зажав во рту кончик дратвы.
— Дворянский холоп Первушка, псковитин. Лих человек на деньги. Какое хошь челобитье за деньги отдаст, хоть самому государю.
— Ой ли?! — подхватил чеботарь. — А сам псковитин? Чего же ты ране молчал!
— Аль тебе нужда? Как я ведал! А ты иди к нему, он к нам до Пушкарска приказа всегда поутру с господином скачет, народ разгоняет с дороги…
Наутро сапожник Тереша, пересчитав «мирские» псковские деньги и оставив сына чеботарить на торгу, чуть свет сам пришел к воротам Пушкарского приказа. Ему пришлось дожидаться часа четыре, пока, разгоняя народ, с криком и свистом влетела на площадь ватага холопов.
К крыльцу подъехал начальник приказа окольничий Траханиотов.
Вчерашний красавец холоп, ловко спрыгнув с коня, придержал ему стремя…
Когда окольничий скрылся в дверях приказа, сапожник решился шагнуть к Первушке…
2Траханиотов с загадочным видом протянул свернутый столбец вошедшему Собакину.
— Читай, Никифор Сергеич, — многозначительно сказал он, — да рассуди, как тут быть.
Собакин развернул столбец и погрузился в чтение. Это было челобитье псковских посадских людей — стрельцов, пушкарей и попов — на своего воеводу и на торгового гостя Федора.
Собакин читал и понимал только одно: что ему надо найти самый мудрый и государственный выход. Он вдумчиво прочитал все до конца и на обороте прочел добрую половину подписей, прежде чем вымолвить слово, боясь показать себя недостаточно мудрым.
— Как мыслишь? — подбодрил Траханиотов, и в голосе его была какая-то скрытая хитрость. Он словно хотел испытать приятеля.
— Мыслю, что надо изветчиков к пытке взять… — наконец надумал Собакин. — Как его… Томилку Слепого да первых десятерых, чьи приписи на заду челобитья. Да в город бы сыск послать крепкий, сыскать, по чьему научению мужики встают на своего воеводу!
Сказав так, Собакин с гордостью поглядел на приятеля и вытер со лба пот, проступивший от напряжения.
Траханиотов захохотал.
— Огрешился, Никифор! — весело воскликнул он. — Кабы ты там сидел воеводой, и я бы так учинил, а там князь Лыков, боярина Никиты Ивановича Романова друг. Стало, мы сыск-то по челобитью на него самого и пошлем, а после праздников собирайся ты на кормленье во Псков, обещал мне тебя послать боярин Борис Иванович…
Собакин вскочил с места. У него захватило дыхание.
— Неужто во Псков воеводой?! — воскликнул он, не веря ушам.
Псковское воеводство было одно из самых богатых, и получить его — значило стать на виду у самых больших людей государства.
Никифор Собакин полез обниматься с приятелем…
И вот вместо того, чтобы писать во Псков воеводе о том, что у него творится неладное и посадские мужики подали на него челобитье, вместо того, чтобы заранее дать возможность все привести в порядок, как делалось это почти всегда, когда по мирским челобитьям приходилось назначить розыск, — Борис Иванович Морозов, по просьбе Петра Траханиотова, указал послать внезапный и скорый сыск во Псков, не отсрочивая до после праздников.
3Стоял мороз. То и дело трескались бревна избы. По пузырю окошка сверкали блестки пушистого инея. Когда Якуня вошел со двора, из-под ног его, словно кудлатый пес, в избу бросилось низкое облако пара и, клубясь, прокатилось от двери до самой печки.