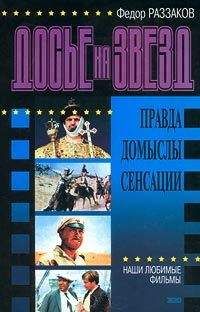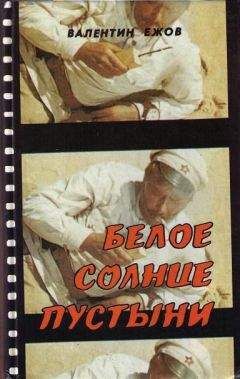Степан Злобин - Остров Буян
Посадская беднота несколько дней передавала из уст в уста этот случай. На Гаврилу Демидова стали смотреть как на героя, а между тем на него надвигалась гроза.
Федор Емельянов, узнав, что хлебник собирает подписи к челобитью против него, пришел в ярость. «Не спущу худому купчишке! Вконец разорю!» — решил он.
И тут, на счастье, Кузя встретил старого дружка Захарку — Пана Трыка, приехавшего в Порхов. Оказалось, что после смерти мужа подьячиха отдала осиротевшего Захарку в ученье к Шемшакову, и, помогая ему приводить в порядок бумаги, Захарка всегда знал про все дела своего хозяина и учителя. Вместе с Шемшаковым по делам Емельянова приехал он и в Порхов.
Встретясь с Кузей, Захарка расхвастался, что стал уже почти настоящим подьячим, что понимает во всех делах и знает тайные замыслы самого Емельянова.
Попав к Кузе на пирог и хлебнув чарку браги, Захарка болтнул и больше: он рассказал, что Емельянов через Шемшакова скупает ссудные записи хлебника Гаврилы Демидова, чтобы поставить его на правеж[111] за долги. Услышав об этом от Кузи, Прохор тотчас послал со знакомцем письмо Гавриле. Гаврила кинулся к купцам, которым был должен деньги, прося их не отдавать его долговых расписок Федору.
Но те растерялись.
— Не можем стоять против Федора, — говорили посадские, — самих разорит. Не смеем.
Тогда Гаврила наскоро продал лавку и выкупил сам ссудные записи.
Но Емельянов не успокоился: он послал Шемшакова в Новгород, чтобы захватить там и новгородские долги Гаврилы.
Хлебник узнал об этом в свое время; он привез к себе во Псков Кузю, оставил весь торг на него в последней своей лавке, а сам помчался в Новгород спасаться от разорения и правежа.
Кузя теперь был единственным помощником Гаврилы.
— Тетка с робятами в Порхове живут у моих батьки с маткой и никакого худа не чают: жалеет их дядя Гавря, — рассказывал Кузя.
— Что ж теперь будет? — спросил Иванка.
— А кто его знает! Гость Емельянов силен, не нам с ним тягаться. И Шемшаков, подручный его, такой грамотей, что черное белым напишет, любого судью обманет.
— Эх, Кузька, есть у меня знакомец — таков грамотей искусный! Вот бы дяде Гавриле его совета спрошать! Стречал я его на Великой, рыбу ловили… Площадной подьячий он, что ли… Сходить по торгам…
— Сам старшина площадных подьячих Томила Иваныч дяде Гавриле во всем пособляет. Тот уж такой грамотей, что иного не надобно. Я у него теперь и живу, — сказал Кузя. — Лучше его все равно не сыскать. На его челобитье и вся надежа у наших посадских.
— Много ты знаешь! Кабы тот мой знакомец писал челобитье, то б челобитье было! Уж так-то пишет, что сердце щемит от его письма! — не сдавался Иванка, которому глубоко запал облик странного рыбака на Великой. — Может быть, твой-то ведает про него… Подьячи подьячих ведь знают…
Они подошли к сиротливо засевшему в снег домишке, где жил Кузя.
Кузя взялся за висевший у ворот молоток и стукнул два раза.
Со двора послышались быстрые, легкие молодые шаги, скрипнул запор, и отворилась калитка. Их встретил Иванкин знакомец, странный рыбак-грамотей. Это и был старшина площадных подьячих Томила.
Глава девятая
Юность Томилы Слепого[112] прошла над Волгой, в Желтоводском Макарьевском монастыре[113]. Отец его, нижегородский успенский пономарь Иван Толоконник, погиб в ополчении Минина и Пожарского под Москвой. «Фомка Иванов, Пономарев сын», как писали его имя, был по сиротству принят монахами. Здесь было несколько юношей, отданных в монастырь на послушание «для обучения грамоте и воспитания во благочестии».
Молодые послушники под черными рясами таили сердца озорных поволжских ребят. При встречах с наставниками-монахами они строили постные лица и умильно просили благословения, а за спиной архимандрита[114] и старцев крали с поварни мясо и масло, лазали через стены за водкой, угождали богатым богомолкам; тайком играли в кости и в зернь[115] да рассказывали друг другу потешные и нескромные рассказы. Фома чуждался их лживой и вороватой толпы.
Он сдружился с двоими, державшимися особняком, — с мордовцем Никитой и поповичем Марком. Вместе они изучали грамматику и святых отцов, читали по-гречески Аристотеля[116] и бродили меж белых стволов над обрывом по монастырскому саду, откуда при взгляде поверх монастырской стены было видно широкое без конца Заволжье. Под их ногами шуршали желтые опавшие листья берез, и золотисто-синяя даль сверкала из-за холодной реки, упояя взоры простором и сердца ощущеньем бескрайности мира.
Они сблизились между собой и научились искусству дружбы, удовлетворяя юношеской потребности высказывать друг перед другом затаенные от наставников мысли и чувства.
Желтоводский архимандрит греческий поп Паисий сам занимался с юношами изучением чужих языков. Фома привязался к книгам. Певучие звуки греческих и латинских стихов опьянили его равномерностью ритма и музыкой. Его потянуло слагать на родном языке такие же звучные вирши.
Архимандрит рассказывал им о греческих и латинских поэтах, ораторах и философах, приводя нравоучительные стихи и речения древних.
Но не глубокомысленный и высокий Аристотель, не блестящий оратор Цицерон, не поэтический жизнелюбец Вергилий[117] прельстили Фому. Он привязался мыслью к одному из латинских поэтов, наследие которого заключалось всего в двух десятках речений, но мысли которого обращались к богатству и бедности, к неправдам и справедливости между людьми. Это был современник Цезаря[118], знаменитый мим, сирийский раб Публиус Лохис Сирус, любимый народом и увенчанный Цезарем за свое искусство.
«Desunt inopiae pauca, avaritiae omnia»[119], — прочли они как-то среди других изречений Сируса, и Фома в первый раз в жизни взялся за сочинение виршей. Втайне от всех, даже от Никиты и Марка, он просидел не один час, трудясь, и наконец прочел друзьям плоды своей работы — переложение мысли Сируса в вирши:
Велика ли сирых недостача?
Егда хлеба на день — уж и то удача.
Скареда же хоть в сто крат богаче,
Днем и ночью о нуждишках плачет.
Никите понравилось, Марк же сурово качнул головой.
— Ты бы псалмы Давыдовы[120] перелагал в вирши, что ли, все лепей было бы, да и начальствующим угоднее. А сие к чему! — с пренебрежением сказал он.
Марк вообще любил угождение старшим, любил похвалу начальства и ревновал, когда архимандрит хвалил усердного и вдумчивого Никиту.
— Никита упорством козлиным берет в ученье, — доверительно говорил Марк Фоме. — Мужик, да еще мордовец. Разум тупой у него, лишь упорства много!
Но, вопреки утверждениям Марка, архимандрит похваливал Никиту и говорил, что с его усердием он будет к тридцати годам архиереем.
Однако при всем прилежании к ученью Никита не был покорным и угодливым, как Марк. Нередко между друзьями он позволял себе резкое слово по отношению к старшим и даже по отношению к самому архимандриту. Как-то раз в пост он заметил в келье учителя спрятанную за книгами яичную скорлупу и с возмущением сказал о том Марку и Фоме.
Фома по этому поводу тотчас составил вирши:
Светом чистой книжности разум просвещается,
Кто во келье свято грамотой питается,
Образы премудрости тому объявляются;
Мудрость претворяет огурцы во яица.
Юнцы посмеялись между собой и думали, что дальше их случай с яйцами не пойдет.
Но вдруг архимандрит призвал к себе Никиту.
— Я мыслил, твой разум не суетным занят, а ты за учителем, аки холоп смердящий за господином, смотришь. Не доброе перенимаешь, а худого жаждешь найти. Я с любовью к тебе, а ты ко мне с завистью песьей! Будет с тебя науки. Иди в мир, женись и живи. Кур разводи да яйца считай.
Архимандрит вызвал из деревни отца Никиты и отдал юношу из монастыря, указав его тотчас женить. Влюбленный в науку Никита лил настоящие слезы, а Марк утешал его:
— В мужицком деле куды тебе грамота? Не в патриархи мужицкий путь. А мордовским попом и так станешь!..
Но Фома услыхал в его голосе нотку злорадства.
— Зачем ты довел отцу Паисью про яйца? — внезапно спросил Марка Фома после отъезда Никиты.
Марк покраснел.
— Я не Паисью, я отцу эконому шуткой сказал… Да ты не бойся, я лишь про Никиту, а про вирши твои не обмолвился словом.
— Лучше б ты про меня, — возразил Фома, — меня бы погнали, я бы без слез ушел. Не хочу жить в обители и архиерейского посоха не хочу!
Но Фому не спрашивали о его желании. Вместе с Марком готовили его к пострижению в монахи. Фома тосковал. Вечная жизнь в монастыре пугала его. Единственное, что держало его здесь, — это были книги. Однако в последний год, после посещения монастыря новым митрополитом, любимая латынь была в монастыре запрещена. Митрополит велел изучать только греческий да славянский.