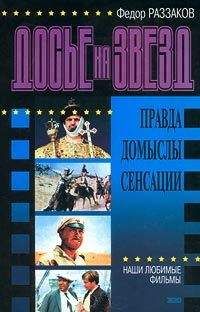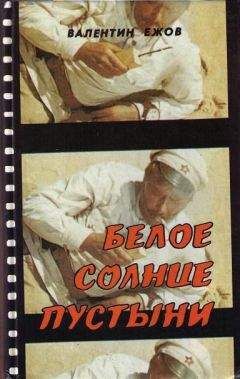Степан Злобин - Остров Буян
Иванка вздохнул.
— Иди, Афонька, распутывай крестника сам. Я узлы твои не люблю — дюже туги.
— Пущай потерпит, — отозвался великан. — Я за него, окаянного, сколько поклонов выбью. Пущай полежит да помучится тоже — не сдохнет!
— Афоня приговорил. Знать, лежи да не охай! Рассветет — я тебя к отцу сведу, — весело заключил Пахомий. — А ты, Афоня, на дудке покуда, что ли, сыграй.
Не говоря ни слова, послушник уселся перед костром и опять затянул грустным посвистом камышовую девичью или, может быть, птичью песню.
— Как звать-то? — вполголоса спросил старец Иванку, стараясь не помешать нежному пенью свирели.
— Иваном.
— Глуп ты, свет Иван! Я чаю, ты мыслил с того коня богатым вчиниться?
— Мыслил, — признался Иванка.
— Воровство, свет, не к прибыли, а вору к погибели. Воровать вольно, да бьют больно. Чего с тобой ныне деять? На съезжу свел бы я, да, вишь, Афоня у бога тебя отмолил… Сведу тебя к батьке твоему — пусть клюшку купит да крепче лупит…
Старец помолчал.
— Доброму обучался ль чему? — внезапно строже и суше спросил у Иванки монах.
— У Прохора у Козы в гончарне.
Старец взглянул с усмешкой:
— Ты, что ль, грамотей-то? Наместо трав всякие неладны слова писал?
— Я.
— Прогнал тебя Прохор?
— Прогнал, — признался Иванка.
— Вишь, свет, кругом нелады: иному грамота в голову, а иному нивесть куды! Опосле Прохора у кого живешь?
— Жил у Мошницына, кузнеца.
Старец взглянул еще веселее.
— Мех из кузни в кабак притащил? — спросил он, и морщинки, как лучи, брызнули вокруг его глаз сдержанным смехом.
— Отколе ты знаешь? — спросил удивленный Иванка.
— Стало, ты тащил мех?
— Я.
— Выгнал и кузнец тебя? — строго спросил монах.
— Выгнал.
— Прохор выгнал, Михайла выгнал, ну ты и умыслил пойти в конокрады. Добро! Ремеслу не обучен, так батьке на радость хоть татем стал — то и слава!.. Спросят батьку: «Кто сын твой?» — «Тать». — «Ну, стало, и сам ты на ту же стать». Тут батьке и честь! — заключил монах. — Светает, гляди. Пора… Развяжи-ка его, Афоня. Сведу его к батьке на радость, — сказал старец с горечью, и глаза его уже не смеялись, а глядели с укором и грустью.
6Когда старец Пахомий привел к Истоме конокрада Иванку, звонарь просидел целый час на лавке, не в силах вымолвить слова и лишь пожевывая губами кончик седой бороды…
— Ваня, — тихо сказал он наконец, когда вышла из дому бабка и они остались вдвоем. — Ваня, вором стал?
— Вором, — прямо взглянув на него, признался Иванка.
Истома взял его за руку, вывел на середину избы и, обернув в передний угол, лицом к иконе, сам стал на колени и за собой потянул сына. Иванка опустился на колени рядом с отцом.
— Господи! — страстно воскликнул Истома. — Прости меня, окаянного, боже, что сына гублю!.. Ей, господи, боже мой, обещаюсь вина не пить и честно трудиться и сына Ивана, раба твоего, добру обучать…
Он перекрестился и дернул Иванку за рукав.
— Обещайся богу заповедь помнить, не красти добра чужого.
— Бедных не крал, а богатых добро покрасть — грех ли есть? — возразил Иванка.
— Иван, погубишь себя… Ты мне одна надежда, а чуть палачу не попал, — укорил звонарь. — Слышь, Иван, я обещался богу вина не пить. Станем горшечное дело править!
— Ин станем! — обещал Иванка.
С этого дня Истома покинул кабак.
Изредка, проходя по улице, позабывшись, сворачивал он к широкой красной двустворчатой, гостеприимно распахнутой двери, но вдруг, спохватившись, спешил убраться…
Переведенный на время в город Порхов стрелецкий старшина Прохор Коза поручил по-соседски Истоме беречь оставленную гончарню. Она стояла брошенная без дела, и Истома подумал, что в том не будет обиды, если он возьмется за промысел в Прохоровом покинутом сарае.
Истома устроил за поповским огородом свою гончарню. Иванка дружно работал с отцом, не без причуд, но во всем помогая ему.
Иногда Истома сердился, когда Иванка, наскучив однообразием работы, выделывал штуки: то налеплял козью голову на рукомойник, то вылепливал рыло свиное на глиняном кувшине… Но вскоре Истома заметил, что странный Иванкин товар быстрее сбывался с рук. Он перестал ворчать, и тогда Иванка надумал к святкам наделать на торг глиняных харь[109], и в долгие осенние вечера он их усердно раскрашивал краской, купленной в лавочке у богомазов[110].
К рождеству Истома пристроился исполу торговать в лавку к старому посадскому горшене. Глиняная посуда была у псковитян в ходу, но еще ходчее шел на торгу небывалый Иванкин товар — глиняные хари. Народ собрался толпой перед лавкой поглазеть на страшные и смешные рожи кощеев, коз, медведей и цыган, раскрашенные яркими красками.
Иванка сам продавал свои хари; примеряя себе то одну, то другую маску, он блеял козой, рычал медведем, хрюкал свиньей, выкрикивал неслыханными голосами, пищал, визжал, лаял, расхваливая свой веселый товар.
— Подходи, посадский люд, честные крестьяне, приказные и бояре! Подходи, каждому дам по харе!.. — кричал Иванка.
— Ты б бояр-то оставил, — одергивал Истома вполголоса, но Иванка не слушал его.
— Кощей бессмертный, богословскому дьякону дед — вчерась исполнилось триста лет!.. — рекомендовал он зрителям харю кощея.
— Серый волк — площадной подьячий, бродит без дороги, а кормят его ноги…
— Попадья Хавроша, собой хороша: рожей пестра — свинье сестра! — выкликал Иванка. Народ гоготал на Иванкины прибаутки, приценялся к харям. Иванка брал по полалтына за харю. Посадские покупали. Старые люди останавливались, прислушивались и, отплевываясь, отходили прочь…
Хозяин лавки серчал, что Иванка собрал толпу. Он уверял, что другие горшечники к празднику важно торгуют, а у него ротозеи заслонили толпой лавку и честному человеку нельзя подойти за товаром.
— Я с тобой на горшечный торг порядился, а ты скомороший позор чинишь! В съезжую избу еще попадешь с вами! — ворчал он. — Утресь чтоб не было в лавке харь! Торгуй честным товаром…
— Птица совка, алтынная головка, к людям охальник — кабацкий целовальник! — не слушая ворчанья, кричал Иванка, выставляя харю пучеглазой совы, сделанной под всем известного завеличенского кабатчика, прозванного Совкой.
— Иванка, здоров! — расталкивая толпу, закричал высокий толстомордый парень. — Глотку твою от Рыбницкой башни слыхать.
Иванка поперхнулся собственным криком от радости и удивления, — это был Кузя, позабытый друг, давний приятель.
Они обнялись, словно два брата.
— Гляжу, дурацкие хари несут по торгам. Слушаю — озорник орет. Ну, мыслю, то мой Иванка — кому еще! — пояснил Кузя толстый.
И они оба смеялись, схватившись за руки и в новых, возмужалых чертах друг друга стараясь прочесть воспоминания о раннем детстве…
— Соловей, чего приумолк, все, что ли, хари? — спросил покрытый синяками, оборванный ярыжка Иванку.
— Тебе пошто? У тебя и своя страшна! — засмеялся Иванка, и все кругом захохотали.
Чтобы не пропустить конец торга и не торговать назавтра, Иванка усадил Кузю в сторону, а сам закричал опять, выставляя свой потешный товар перед толпой.
— Зверь-бычок — посадский мужичок, собой невидный, всем безобидный, сымай три шкуры, молчит, как дура! — кричал Иванка, выставив харю бычка.
Потом он взялся за ощеренного черта, в котором толпа узнала торгового гостя Федора Емельянова.
— Гость богатый, сам черт рогатый, зубы в два ряда, сердцем скареда! — задорно выкликал Иванка и чуть потише добавил: — Сатана породой, а друг с воеводой!
7— Эх, Иван, беды наживешь! — тихонько сказал осторожный Кузя, когда Иванка все продал и уходил с торга.
— Пошто беды? — удивился Иванка.
— Посильней тебя люди гинут, — со вздохом сказал Кузя. — Дядю Гаврю, чай, помнишь?
— Как мне не помнить!
— А слышал, чего с ним стряслось?
И когда с торга они пошли к Кузе в Запсковье, он рассказал Иванке о том, как назад тому месяца три хлебник Гаврила поймал на обвесе емельяновского приказчика при покупке соли. Хлебник тут же при всем народе поколотил мошенника палкой, притом посулив, что напишет челобитье в Москву и подымет на Емельянова всех посадских.
Большая очередь стояла у соляного подвала, теперь единственного во Пскове, и все кричали Гавриле: «Подбавь! Подбавь палки!», потому что обвесы на соли замучили всех и все радовались отомщению.
Посадская беднота несколько дней передавала из уст в уста этот случай. На Гаврилу Демидова стали смотреть как на героя, а между тем на него надвигалась гроза.
Федор Емельянов, узнав, что хлебник собирает подписи к челобитью против него, пришел в ярость. «Не спущу худому купчишке! Вконец разорю!» — решил он.
И тут, на счастье, Кузя встретил старого дружка Захарку — Пана Трыка, приехавшего в Порхов. Оказалось, что после смерти мужа подьячиха отдала осиротевшего Захарку в ученье к Шемшакову, и, помогая ему приводить в порядок бумаги, Захарка всегда знал про все дела своего хозяина и учителя. Вместе с Шемшаковым по делам Емельянова приехал он и в Порхов.