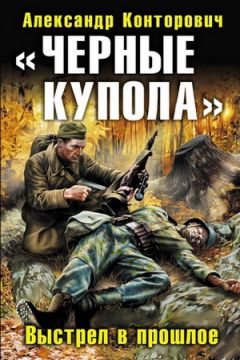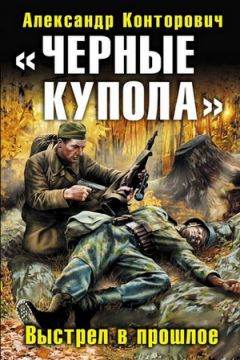Александр Саверский - Кровь
-- Откуда ты знаешь, что существуешь?
Этот вопрос меня смешит, я теряюсь от его нелепости и поэтому не знаю, как ответить.
-- Я же есть.
-- Докажи!
Мое сознание мечется в поисках ответа...
Надо мной склоняется Полная Луна.
-- Леша, как ты себя чувствуешь? -- Ее голос заботливый и... нет, это не ее голос, это Василиса.
Я вымученно улыбаюсь.
-- Ничего. Пойдет.
-- Хочешь чего-нибудь?
-- Угу, не болеть.
Я вижу, что она в смятении, и спрашиваю:
-- Что-нибудь случилось?
-- Странно, был врач, посмотрел тебя. Даже возили на "скорой" в больницу, но совершенно ничего не нашли, даже гриппа. Утверждают, что ты совершенно здоров.
-- А температура?
Она смотрит на меня задумчиво и говорит:
-- А у тебя и не было температуры.
-- Как не было? -- пытаюсь я оживиться, что фактически не удается сделать.
-- Не было, не было, -- бормочет она, как заклинание. -- Ты, наверно, просто переутомился со всей этой историей. Вот нервы-то и шалят.
-- А обмороки?
-- Обмороки? -- она удивлена. -- Нет никаких обмороков, ты просто спишь вот уже сутки и разговариваешь во сне. Правда, еще потеешь все время.
Я и вправду чувствую испарину на лбу. Да, что-то не так с головой.
-- Похоже на то, что ты бредишь, -- заканчивает она диагностику, -- вот я и позвала врача. Съешь чего-нибудь?
Это последнее, что я слышу перед провалом в то, что она называет сном...
-- Я воспринимаю информацию и перерабатываю ее, -- отчитываюсь я перед Ветром Небес.
-- Это хорошо! -- кивает он. -- Летим!
Мы опять поднимаемся в небо, и он показывает мне мир, которого я совсем не знаю. Точнее, у меня такое ощущение, что я его уже видел когда-то, но забыл. Я вижу странные города, где дома больше привычных мне во много раз, я вижу...
Падение начинается столь стремительно, что я даже не отмечаю его начала. Но падаю я не на Землю, и не в зал, и не в свою кровать, а куда-то внутрь себя. Мимо проносятся цветные звезды, а потом, как в калейдоскопе, один за другим сменяются земные миры. И я снова просыпаюсь.
-- Дай чего-нибудь съесть, -- прошу я мою прекрасную сиделку.
Она подает бульон и кусок хлеба. Я проглатываю все это и откидываюсь на подушку, сознавая, что все во мне переменилось. Я помню себя от Адама до Алексея Кудрина, но не могу об этом думать, нельзя. Объем полученной информации столь велик, что, пожелай я ее проанализировать, или даже поговорить об этом, моя голова взорвется. Я уйду туда, в прошлое, и уже никогда не смогу вернуться. Это можно только принять как данность, которая есть опыт моего "я".
Просто я стал больше, что ли, там, внутри, больше. Многое понял, о чем прежде и не думал.
В комнате раздался смешок:
-- Боится!
-- Конечно, боится, -- подтвердил кто-то.
Маша и Пернатый Змей снова здесь.
-- А чего боится?
-- Ясно чего: самого себя!
-- Хи-хи-хи! Вот страх-то Господень! Что ж он о смерти-то собственной подумает?
Дети исчезают, а я думаю о смерти. Ведь я умирал много раз.
Увиденные мною жизни не умещаются в голове. Там не хватает места для противоречивой информации о том, что я был и минералом, и Богом одновременно. Первое сознание абсолютно тупо, второе сознание просто абсолютно. И как?
Как это все запихнуть в себя? Я захныкал как ребенок, что вылилось в легкий стон.
Василиса положила руку мне на лоб, и я с наслаждением сосредоточился на ее прохладе и мягкости.
Но порадоваться жизни мне не дали. В комнату вползала огромная змея. Я не видел ничего внушительнее и одновременно красивее этого земноводного. Она не спешила, нет. Медленно, с сознанием собственной значимости в этом мире, она втягивала бесконечное тело в маленькое пространство "хрущевки". Ее голова приблизилась к моему лицу, а на полу по всему периметру стен, сворачивались все новые и новые ее кольца. Кончилось это тем, что мы с Василисой оказались погребенными под всей ее массой. Я хотел встать, но не мог, не было сил. Тогда вздумал кричать, но мощное тело змеи тут же закрыло мне рот, а два огромных зуба приблизились к моим глазам. Стало нечем дышать. Я понимал, что ничего не могу сделать....
-- Как ты думаешь, человек всесилен? -- Серебряный Медведь спокойно смотрит на меня, его змея не беспокоит.
-- Нет!
-- Тогда, чего же ты переживаешь?
-- Я хочу жить!
-- Но ведь змея сильнее тебя! Ты не можешь с ней справиться!
-- Что же, просто умереть, без борьбы?
Старик изумлен или делает вид, что изумлен, поскольку его глаза возбужденно блестят:
-- А ты можешь бороться? Тогда борись!
Я в недоумении. Что же не так? Старик прав в обоих случаях. Если я не могу бороться -- значит, должен умереть, но умирать я тоже не хочу. Но и сил, чтобы выжить, у меня нет. Значит -- смерть, несмотря на жалкое сопротивление и вопящее желание жить! Это несправедливо!
-- Хо-хо! Несправедливо? -- старик чему-то рад. Я бы тоже не отказался порадоваться вместе с ним, но нечему. Меня утешает только то, что где-то там, на Земле, все замерло как фотокадр. Никто не шевелится: ни змея, ни Василиса, ни я. А может, это здесь для меня мгновения растянулись в века, а там все продолжается?
В века? Меня удивляет эта мысль, а старик начинает хохотать громче и исчезает.
Точнее, это я оказываюсь... змеей. Да, теперь я сама змея, а мое родное тело лежит там, свернувшись в комок страха. Я уползаю, успокаиваясь, и принимаю себя самого таким, каким я когда-то был...
Рука Василисы поглаживает мой лоб, а меня колотит озноб.
-- Успокойся, Лешенька. Не надо так кричать. Ну?!
-- Я кричал? -- спрашиваю я, а зубы выстукивают джигу.
-- Ох, наконец! -- вздыхает она с облегчением. -- Я уже снова хотела звонить в "скорую".
Я вижу, что под глазами у нее опять появились синяки, как тогда, после бессонной ночи. Еле двигаю рукой, чтобы погладить ее ладонь. Слабость чудовищная.
-- Не надо "скорую", радость моя, -- говорю я, -- это пройдет.
-- Пройдет, -- вторит она и снова вздыхает, -- когда?
-- Ты бы поспала.
-- Поспала? Ты бы видел себя и слышал. Безумие какое-то! -- На ее глазах появляются слезы. Я пытаюсь ее успокоить, но вижу, что в этом нет необходимости.
Василиса смотрит на меня глазами безбрежного океана, и я тону в нем.
-- Как ты думаешь, любовь может быть вечной?
-- У любви много лиц, -- автоматически откликаюсь я.
В синеве появляются облака, гладь океана покрывается рябью:
-- Значит, невечна!
-- Ну, я не знаю, -- говорю я, понимая, что сказал не то, что она хочет слышать. -- Это сложно: испытывать вечно одно и то же чувство. Мы ведь живем в мире перемен.
-- Но мы живем?
Я гляжу на нее, и до меня доходит, что это не Василиса.
-- Мы?
В этом биноме Ньютона, составленном из слов, таится огромный смысл. Я сам с трудом понимаю его, хотя и разразился мудрым местоимением.
На меня обрушивается абсурдность всяких слов и мыслей, всякого существования и чувств.
Мы? Кто -- мы? Полная Луна и я?
Разве ж мы живем? Кого-то из нас нет, и физически не может быть рядом, нас разделяют тысячи лет. Но ведь это не так: мы говорим, мы видим друг друга, наконец, мы знаем друг о друге.
Я чувствую, что окончательно тупею. Мир перемен... Перемен в чем?
-- Может быть, ты права, и вечная любовь существует.
Внезапно я оказываюсь перед дверью, она распахивается, на меня обрушивается невероятный свет, я слышу голоса, необычную музыку, вижу какие-то фигуры, и... прихожу в себя.
Василиса спит рядом, широко раскинувшись под одеялом. На улице темно. Несколько минут я пытаюсь сообразить, что из того, что я видел и слышал, правда. Так ничего и не решив, встаю и выхожу в другую комнату. Включаю телевизор и нажимаю кнопку телетекста.
Факт, меня не было двое суток.
В спальне раздается шуршание, по коридору шлепают шаги, и входит моя любовь. Оценив мое состояние долгим взглядом, она произносит с улыбкой:
-- Так ты говоришь, вечная любовь все-таки существует?
6.
Игорь Юрьевич Лаврентьев проснулся в десять часов утра в своем загородном доме и поглядел на часы, но не смог рассмотреть ничего путного. Взгляд застилала полная и абсолютная пелена толщиной в полсантиметра. Слабой своей рукой он протер глаза, но цифры на электронном табло отчаянно двоились. "Семь не семь, -- вяло поразмыслил он, -- наверное, все-таки семь. А пусть будет семь!", -- принял он государственное решение и снова уснул.
Проспав еще два часа, он, наконец, сумел разглядеть показания часов, отчего сильно возмутился.
"Мать вашу итить! У меня ж сегодня валютчики и Самоцветов!".
-- Соловьев! -- заорал он, но голос хрипел, сипел и дальше спальни вряд ли просочился. Прокашлявшись, он повторил процедуру крика, и на этот раз его многодецибелловый вопль должен был быть услышан даже на улице. Впрочем, дожидаться Соловьева он не стал, а вскочил с кровати и, выбежав за дверь в одних трусах, уже вполне грозно завопил в третий раз:
-- Соловьев, мать твою итить!
Тишина, послужившая Вице-премьеру правительства ответом, заставила задуматься.