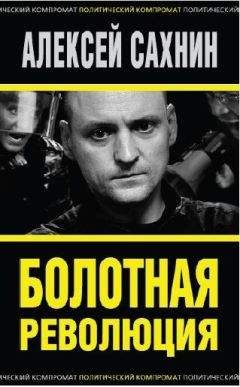Алексей Писемский - Мещане
- Опасного, конечно, нет; но ему самому, вероятно, очень тягостна жизнь.
Эти слова доктора нисколько не обеспокоили Домну Осиповну: она твердо была уверена, что вся мизантропия Бегушева (что такое, собственно, за болезнь мизантропия, Домна Осиповна хорошенько не понимала), - вся его мизантропия произошла оттого, что к ней приехал муж.
- От этой болезни я надеюсь вылечить его, - сказала она.
- Без сомнения!.. - воскликнул Перехватов. - Женщины в этом случае гораздо полезнее докторов! Кто любит и любим, тот не может скучать и хандрить!
Домна Осиповна нисколько не оскорбилась на такое откровенное замечание доктора, который, все еще находясь под влиянием беседы с Бегушевым и как бы не удержавшись, присовокупил:
- Какой, однако, чудак господин Бегушев; я лечу во многих барских и купеческих домах, но и там, даже между людьми самыми отсталыми, не встречал таких оригиналов по мысли.
- Оттого, что он умнее этих людей, - заметила Домна Осиповна.
- Конечно, оттого! - подтвердил доктор, но вряд ли втайне думал это.
В передней Домна Осиповна, подавая ему на прощанье руку, вместе с тем передала и десятирублевую бумажку, ценность которой Перехватов очень точно определил по одному осязанию и мысленно остался не совсем доволен такой платой. "Хотя бы за массу ругательств на докторов, которую я от господина Бегушева выслушал, следовало бы мне заплатить пощедрее!" - подумал он.
- Барин скоро выздоровеет? - спросил вдруг каким-то диким голосом Прокофий, тоже провожавший доктора.
- Вероятно, скоро! - успокоил его тот.
Физиономия Прокофия просияла.
Когда Домна Осиповна возвращалась к Бегушеву, странная мысль мелькнула у нее в голове: что каким образом она возвратит от него сейчас только отданную ею из собственных денег десятирублевую бумажку? Бегушев, впрочем, сам заговорил об этом:
- Что же вы не взяли денег дать доктору?
- Я дала ему десять рублей, - отвечала Домна Осиповна.
- Мало это!.. Они нынче очень жадны! - проговорил Бегушев.
- Совершенно довольно, а то вы его избалуете; он и с нас, грешных, будет того же требовать.
Домна Осиповна не любила ни своих, ни чужих денег тратить много.
- В таком случае возьмите со стола сторублевую и расплачивайтесь с ним, как знаете.
Домна Осиповна с удовольствием исполнила это приказание и, беря деньги, увидала рецепт.
- Послать надо это? - спросила она.
- Да! - произнес не совсем охотно Бегушев.
Домна Осиповна немедля отправила Прокофия в аптеку, а сама подошла к кровати Бегушева и даже встала перед ним на колени.
- Ты не сердишься теперь больше на меня? - говорила она нежным голосом и, поймав руку Бегушева, начала ее целовать. - Ах, как я люблю тебя! шептала она.
Бегушев тоже умилился душой.
- Действительно, - сказал он, - надобно, чтобы женщина меня очень любила: я сознаю теперь, какой я злой и пустой человек.
- Ты не злой, но очень ты умен! - заметила Домна Осиповна.
- Поглупей - лучше бы было?
- Лучше! - отвечала Домна Осиповна. - А доктор, скажи, как тебе понравился?
- Пролаз, должно быть, великий!
- Но собой, не правда ли, как он хорош?
- Красота придворного лакея, - определил Бегушев.
- Ах да, это верно! - подхватила Домна Осиповна.
В самом деле доктор напоминал ей несколько придворного лакея, но, впрочем, она любила в мужчинах подобную красоту.
Бегушев между тем сделался опять серьезен.
- У меня просьба к тебе: напиши от меня, под мою диктовку, письмо к Тюменеву, - проговорил он.
- С удовольствием! - сказала Домна Осиповна и села за письменный стол.
Бегушев стал диктовать ей:
- Любезный друг! Я болен и это письмо пишу к тебе рукою Домны Осиповны. Приезжай ко мне на святках погостить; мне нужно поговорить и посоветоваться с тобою об очень серьезном для меня деле. - "О каком это серьезном деле?" подумала Домна Осиповна, заканчивая письмо.
- А какие могут быть у вас серьезные дела с Тюменевым? Может быть, какая-нибудь старая любовь, про которую он знает? - спросила она Бегушева, как бы шутя.
- Вовсе не любовь, а хочу с ним посоветоваться о наследстве после себя, - объяснил Бегушев.
- О нет, не верю, - продолжала Домна Осиповна в том же шутливом тоне; а потом, когда она ехала от Бегушева в его карете домой, то опять довольно странная мысль промелькнула в ее голове: "Что, неужели же Бегушев, если он будет делать духовную, то обойдет ее и не завещает ей хоть этой, например, кареты с лошадьми!" Но мысль эту Домна Осиповна постаралась отогнать от себя.
- О господи, пусть он живет; он единственное сокровище мое, прошептала она и несколько даже рассердилась на себя. Но что делать: "гони природу в дверь, она влетит в окно!"
Глава II
Тюменев был человек, по наружности, по крайней мере, чрезвычайно сухой и черствый - "прямолинейный", как называл его обыкновенно Бегушев, - и единственным нежным чувством сего государственного сановника до последнего времени можно было считать его дружбу к Бегушеву, который мог ему говорить всякие оскорбления и причинять беспокойства; видаться и беседовать с Бегушевым было наслаждением для Тюменева, и он, несмотря на свое большое самолюбие, прямо высказывал, что считает его решительно умнее себя. Откуда проистекало все это - определить трудно; может быть, в силу того, что сухие и завядшие растения любят влагу и только в ней оживают. Получив письмо Бегушева, Тюменев, не дождавшись даже праздников, поехал к нему в Москву. Он очень встревожился, увидав, до какой степени Бегушев пожелтел и похудел.
- Что такое с тобой? - было первое его слово.
- Итог подводится - стареюсь!.. - отвечал сначала уклончиво Бегушев; но потом вскоре же перешел к тому, что последнее время по преимуществу занимало и мучило его. - Ничего не может быть отвратительнее жизни стареющихся людей, подобных мне! - начал он.
Тюменев приподнял несколько свои брови от удивления.
Беседа эта между приятелями, по обыкновению, происходила в диванной, куда перебрался Бегушев из спальни, хотя и был еще не совсем здоров.
- Я такой же стареющийся человек и такой же холостяк, как и ты, однако не чувствую этого, - возразил ему Тюменев, полагая, что Бегушев намекал на свою холостую, бездетную жизнь.
- Ты гораздо лучше меня! - полувоскликнул Бегушев. - Ты имеешь право не презирать себя, а я нет.
- Как презирать себя!.. Что за вздор такой!.. - тоже почти воскликнул Тюменев. - За что ты можешь презирать себя, и чем я лучше тебя?
- Всем: ты всю жизнь служил, и служил трудолюбиво, теперь ты занимаешь весьма важный пост; в массе дел, переделанных тобою, конечно, есть много пустяков, пожалуй, даже вредного; но есть и полезное... А что же я творил всю жизнь? - Ничего!!.
- Ты мыслил, говорил; слово - такое же дело, как и другое!
- Печатное - да!.. Может быть, и дело; но проболтанное только языком ничего!.. Пыль... прах, разлетающийся в пространстве и перестающий существовать; и, что унизительнее всего, между нами, русскими, сотни таких болтунов, как я, которые никогда никакого настоящего дела не делали и только разговаривают и поучают, забывая, что если бы слова Христа не записали, так и христианства бы не существовало.
- Но почему же ты знаешь?.. Может быть, кто-нибудь из слушателей и записал твои слова!..
- Ну да, как же!.. Какие великие истины я изрекал!.. И хорош расчет: надеяться, что другие запишут!.. Нет!.. Попробуй-ка сам написать на бумаге, что за час только перед тем с величайшим успехом болтал, и увидишь, что половина мыслей твоих или пошлость, или бессмыслица; сверх того, и языком говорил неправильным и пустозвонным!
- Постой, однако! - возразил Тюменев. - В парламентах устные речи многих ораторов записываются слово в слово стенографами и представляют собой образец красноречия и правильности!
- Там другое дело! - перебил его с досадой Бегушев. - Тамошние ораторы хоть и плуты большие, но говорить и мыслить логически умеют... Кроме того, сама публика держит их в границах, как лошадь на узде; если он в сторону закинется, так ему сейчас закричат: "К делу!"; а мы обыкновенно пребываем в дустом пространстве - неси высокопарную чепуху о чем хочешь: о финансовом расстройстве, об актере, об общине, о православии; а тут еще барынь разных насажают в слушательницы... Те ахают, восхищаются и сами тоже говорят хорошие слова!
- В Петербурге этого меньше! - заметил Тюменев.
- Вероятно потому, что Петербург умней Москвы! - подхватил Бегушев.
- Ты думаешь? - спросил не без удовольствия Тюменев.
- Я всегда это думал!.. Одно чиновничество, которого в Петербурге так много и которое, конечно, составляет самое образованное сословие в России. Литература петербургская, - худа ли, хороша ли она, - но довольно уже распространенная и разнообразная, - все это дает ему перевес. А здесь что?.. Хорошего маленькие кусочки только, остальное же все - Замоскворечье наголо, что в переводе значит: малосольная белужина, принявшая на время форму людей.