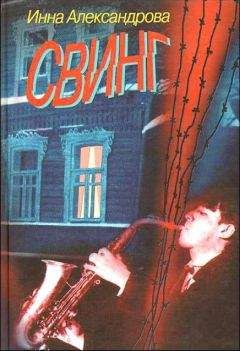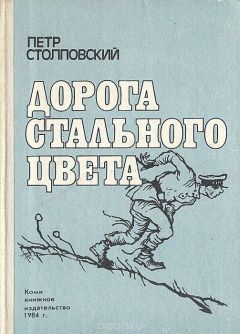Инна Кинзбурская - Дорога на высоту
Хотя несчастной она себя не чувствовала, она не могла позволить себе быть несчастной. Но счастья, которое было, она его держала в руках -- где оно?
Как случилось, что они поженились? Вот уже почти десять лет... Судьба? Может, это и есть судьба? Странная какая-то сводница. Нет, нет, это не могла быть случайность. А что? Была -- любовь? Любовь -- была? И есть ли еще -любовь? Или что -- есть?
Ведь она нравилась -- другим. Она могла выйти замуж -- раньше. Как выходили многие ее однокурсницы: пора, и выходили замуж. Но Светлану все что-то уводило, вело -- мимо. Чего-то она ждала. Чтоб вспыхнул свет. Чтоб замерло в груди. А вот -- не замирало.
На втором курсе в нее был влюблен филолог, это тянулось долго. Они часто бывали вместе, вокруг считали, что они -- пара, что женитьба их -- дело времени. Когда Светлану спрашивали об этом, она смеялась, говорила:
-- Что вы, мы -- друзья.
И держала своего приятеля чуть-чуть на расстоянии.
Филолог был красивый, полноватый, правда, несколько женственный, с мягкими розовыми губами. Еще в самом начале, когда они только познакомились в какой-то студенческой компании, он пошел провожать Светлану, попытался ее поцеловать, прикоснулся губами к щеке. Это было неприятно, она отстранилась. Он понял, больше целовать не пытался, но стал бывать у нее, -- может быть, решил, что время поработает на него.
Светлана всегда радовалась его приходу. Тогда она не задумывалась -почему? Был ли он в самом деле так умен, как казалось, и так ли невероятно много знал? Она могла слушать его бесконечно. Он заходил за ней на факультет после занятий, и они шли, куда глаза глядят, бродили по огромному тенистому парку. Спутник ее говорил и говорил, казалось, это могло длиться вечно, она будет слушать.
Он был старше Светланы, но все равно очень молод, сейчас, вспоминая, она понимала это -- каким он был молодым, и с неудержимостью юности увлекался все чем-то новым и новым, словно не мог допустить, что в мире осталось что-то, чего он не прочел, не узнал, не понял. Господи, разве это возможно?
Он делал открытие за открытием, теперь она понимала, что так только казалось ему, он открывал -- для себя, давно, наверное, известное человечеству. Но он отыскивал глубину и нырял в нее, увлекая за собой Светлану.
У нее кружилась голова от этих плаваний. И тогда она спасалась иронией:
-- Хорошо филологам: читай себе книжки и сдавай экзамены.
Свою математику она не променяла бы ни на какую другую науку, в цифрах и формулах была стройность, гармония, словно на них покоилась основа мироздания. Тогда, в восемнадцать лет, Светлана, понятно, не думала о мироздании, это сейчас она понимала: господи, как хорошо, что она прочно стоит на ногах, что есть у нее нормальная мирская профессия и владеет она своей профессией неплохо, в любой ситуации, на любых ухабах это дает силы. А тогда она просто училась. Науки давались ей легко, сызмальства она привыкла, так ее приучила мама, все, что делала, делать хорошо, и Светлана училась добросовестно. И с удовольствием. Ей нравилось то, чему ее учили.
Но за стенами факультета она не думала о математике. Кроме формул, цифр, головоломных задач, существовала тьма интересных вещей. Она и раньше, в школе, много читала, но это было обычное чтение -- сюжеты, герои, любовь. Ее филолог, казалось, не следил за сюжетом, любовь в книгах его не интересовала читал совсем не то, что полагалось по программе. Он увлекался историей. За жуткие по тем временам деньги он купил у букиниста Соловьева. Почти наделю он не появлялся у Светланы, а когда пришел, спросил:
-- Хочешь прочесть о Петре? Правду о Петре -- хочешь?
-- Я еще в школе читала Толстого.
-- Ах, какая умная девочка. И по истории у тебя было пять?
-- Нет. Больше чем на четверку я не тянула.
-- Все же -- советую.
-- Давай.
Он принес ей серенький томик, Светлана не спала несколько ночей, она всегда читала по ночам. Возвращая книгу, сказала:
-- Темная история с этой историей.
-- Страшная, -- сказал он, -- страшная история РОССИИ. Чем больше узнаешь... Хочешь, я принесу тебе другие тома? Об эпохе Ивана Грозного?
Он стал говорить о других веках, других царях, она и сейчас, казалось, слышала его голос. Время словно сдвигалось, туман редел, она жила в иные эпохи, люди вокруг были незнакомы. Но оттуда сюда, к ним, тянулись нити, может быть, не все видели их, эти нити. А он -- видел. Он живописал, но умел и все расчленить, расставить по полочкам. Они возвращались из путешествия обратно в последнюю треть двадцатого века, здесь тоже было страшно, но он отряхивался, смахивал пыль с сандалий и шел обедать. А у нее еще долго кружилась голова.
Любил ли он ее? Или она была единственной, способной его слушать? Ему это было необходимо -- аудитория, пусть даже из одного человека. Иногда она пыталась сказать что-то свое, он не мог этого допустить. Она умная девочка, он согласен, но что за глупости она говорит.
Потом он нырнул в Достоевского. Он погрузился в него, как уходят под воду и, кажется, не собирался всплывать. Но у него, наверное, был надежный скафандр, а у нее -- не было, она вообще не умела плавать и чуть не оказалась на дне, во всяком случае нахлебалась достаточно.
Она проглатывала очередной роман, а потом смотрела на своих знакомых, на случайных встречных, на прохожих на улице и видела в них Мышкиных, Раскольниковых, Ставрогиных. Это становилось навязчивым, как болезнь.
-- Света, -- спросил встревоженный филолог, -- это у тебя что -- игра?
-- Нет, я серьезно.
-- Но они все давно умерли, сейчас другое время, ты же знаешь.
-- Да, конечно, -- согласилась Светлана. -- Но потомки их живы.
-- Ха! -- сказал филолог. -- Ни у кого из них не было детей. Откуда потомки?
Иронию она понимала.
-- Может, у них были незаконнорожденные дети...
Они сидели в комнате, она подошла к окну, распахнула его. Внизу, как всегда, куда-то двигались люди.
-- Смотри, -- сказала Светлана, -- они все вышли из книг Достоевского.
-- Ну-ну... -- произнес он. Мол, ничего не скажешь, способная у него ученица. Переплюнула его, учителя. Только куда это тебя заведет?
Но неожиданно для обоих их завело в тупик, и дать задний ход уже не получилось.
-- Слушай, -- не то спросила, не то просто подумала вслух Светлана, -- а от кого из героев Достоевского ведет твоя родословная
Он перестал посмеиваться и сказал серьезно, глядя в глаза Светлане:
-- Я не от них, я от самого Федора Михайловича.
-- Ого! Вот это мания!
-- Да, -- сказал он и стал смотреть в окно, но не на людей, а куда-то вдаль. -- Во мне болит. Это моя боль.
Что-то странное, смутное поднялось в ней.
-- Ты что-то путаешь. Это -- великая Русь. А ты, кажется, еврей.
Он досадливо поморщился и заходил по комнате.
-- Какой я, к черту, еврей? Я русский. Я здесь родился. Я впитал все это. Это -- мое.
Она и сейчас помнит -- показалось, что под ногами поползла земля, качнулась. Что это было? Наитие? Голос предков? Или внутреннее чутье уловило фальшь?
-- Теперь моя очередь спросить: ты серьезно?
-- Вполне.
Он помолчал, походил по комнате, еще раз сказал: "Вполне", опять помолчал. Потом подошел к ней вплотную, остановился, усмехнулся, нехорошо усмехнулся:
-- Уж не хочешь ли ты сказать, что при русском папе все-таки принадлежишь к богоизбранному народу. Конечно, у того народа главное -- мамина кровь. О! Это сейчас становится модным. Вспоминают о своей принадлежности, вытаскивают на свет божий документы, которые раньше прятали. И валят туда. Туда! Кому удается. Такое вот свободомыслие. А знаешь, почему едут? Думаешь, увлекают идеи сионизма? Просто захотелось вкусно поесть.
-- А почему бы не поесть вкусно? Я тоже люблю. А ты -- нет?
Они еще никогда не говорили так резко, враждебно. Светлана помнит его лицо -- нехорошее, недоброе. Его не остановила даже ее полушутка.
-- Что ты знаешь о еврейском народе? О его истории? Культуре? Что там сейчас? Язык? Возможна принадлежность к народу без языка?
Ее принадлежность? Русский папа, который с ними не жил, оставил ей в наследство свою фамилию. Это был пропуск в жизнь. Она не говорила об этом с чужими людьми. Но они, кажется, не совсем чужие. Можно и высказаться. Тем более, что ее приятель -- со всех сторон богоизбранный. И отрекается.
-- Я и в самом деле ничего не знаю. Ни-че-го. Ну и что? Поэтому во мне другая кровь? Все они, -- Светлана кивнула в сторону улицы, -- отлично знают, кто моя мама. И твоя, кстати, тоже.
-- А мне плевать, -- сказал он. -- Достоевский -- это мое. А псалмы царя Давида -- извини...
Он опять стал шагать по комнате, останавливался и снова начинал двигаться. А она стояла, будто замерла, прижавшись плечом к оконной раме.
-- Я и псалмов не знаю, и не знаю, кто такой царь Давид. Я слыхала только о мудром царе Соломоне. Это не одно и то же?
-- Почти что. Это отец и сын.
-- Да? А на каком языке там говорят?