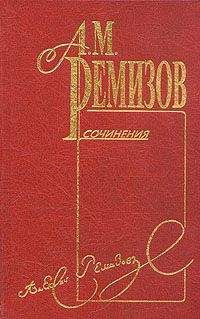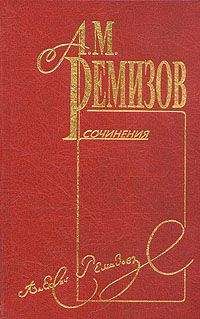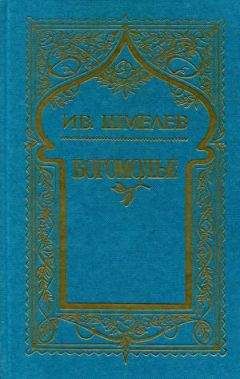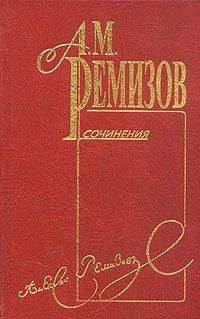Алексей Ремизов - Том 10. Петербургский буерак
Я вспомнил, что Серафима Павловна от Берестовецких ведьм46 столько знает всяких заклинаний и приворотов, и, конечно, все помнит.
(Это теперь я понял: память у Серафимы Павловны была в сиянии ее глаз – «живая вода».)
Уже все поднялись уходить.
– А что вы говорили про воздыхания? – прощаясь, вспомнила Анна Николавна.
Я сразу не понял. Но повторяя себе «воздыхания», вдруг сообразил: это когда я читал «Кроткую», я помянул о «высоком дыхании» у Достоевского.
– Высокое дыхание, – сказал я Анне Николавне, – есть у Лескова в «Соборянах» и в рассказе «Владычный суд», а у Достоевского в «Униженных и оскорбленных» и в «Вечном муже».
И я прочитал из «Вечного мужа» без передышки:
«И навсегда потом остался ему памятен, мерещился наяву и снился во сне этот-измученный-взгляд-замученного-ребенка-в-безумном-страхе- и-с-последней-надеждой-смотревшей-на-него».47
И когда мы остались одни, я сказал:
– Надо придумать что-то для Листина: заговор, что ли, в шутку, пускай себе твердит. Так, ведь, как она сейчас, можно впасть и в отчаяние.
Когда я кутал в одеяле, чтобы теплее было, и подтыкивал, чтобы никакой щелочки, Серафима Павловна сказала:
– Не надо обижать Утенка.
– Да кто ж его обижает?
– Утенок несчастный, одинокий, никто о нем не позаботится.
– А Иван Павлыч!
Но заметив, что Серафима Павловна смотрит удивленно, поправился:
– Иван Павлыч на всех сковычет, а Утенок… то он про Грушины камни, то про песок, начал было читать свои стихи и с полслова остановился, и все у него так.
А закутав в последнее одеяло «на сон грядущий», я присел на кровать – отдохнуть.
– А Наяду я понемногу спаиваю, – говорю языком, а все мысли в дремле.
Серафима Павловна никак не отозвалась.
– Заходил африканский доктор, – продолжал я, – принес спирт, разбавил, мы выпили по две рюмки с перцем, Резников дал толченого. Осталось на рюмку, я Наяде, и она с сахарином… ликер, говорит, вроде сидра.
Серафима Павловна, засыпая, улыбалась. Она понимала мою колыбельную, она понимает, что от африканского доктора, конечно, для Наяды ничего не могло остаться, какая там рюмка! а Наяда вовсе и не приходила.
– А Тамара Ивановна завтра придет? – вдруг спросила Серафима Павловна и тихо заснула.
Если бы… если бы такой сон был всю ночь, ну, хоть полночи… хоть два часа или хоть полный час!
Я погасил свет и тихонько вышел на наш ледник – в кухню к мышке. Приберу немного, покурю, да на свой диванчик: через час мне подыматься.
Мышка вышла из норки, она спать собиралась и, ковыляя, шла ко мне, точно юбку поправляла. А там уж другая, слышу, работает над моим одеялом.
* * *Две гитары, зазвенев,
Жалобно заныли.
С детства памятный напев,
Старый друг мой, ты ли?
Вес, как всегда, радиатор на тысячу, да и многодыхание – согрелось, и только от окна несет.
А что творится на воле! – и снег, и ветер, и беспросветная тьма.
Иван Павлыч орел, по Утенку, царственное зрение, а вот и ему попало: вечером торопился из Булони и наскочил на бывшую будку, покинутый киоск: глаз-то еще ничего, только съежился, но над глазом и под глазом такие вот два фонаря – две тлеющие плошки.
Анна Николавна не пришла, Иван Павлыч с фонарями в этот вечер на судне, как на троне, а на его месте, локтем на валик, Ростик, а с другой стороны, Утенок, уткнувшийся в теплое место Листина, а Листин с папкой и брошками в мое брусничное одеяло. (А потом еще говорят, что блох много.)
Оказывается, у Железного, прозвище брата нашей Половчанки, тоже блохи, и собачьи-сидьни и скакуньи-прядуньи комнатные. У него на полу бобрик. Утенок, перекочевавший от Половчанки к Железному, называет этот бобрик «полубобрик»48, пусть.
– В полубобрике блохи положили яйца…
– Чьи яйца? – прерывает Иван Павлыч.
– Какие же яйца у блох, не куриные ж! – вызывающе говорит Утенок и, довольный, что поддел, облизнулся.
– Все сжечь, и бобрик и полубобрик, другого нет средства: яйца – это последнее дело.
Иван Павлыч поправил свои фонари, а они, как на смех, еще зловещее.
– А Овчине49 в ухо сонному блоха заскочила! – сказал Ростик.
– Надо на ночь уши закладывать ватой.
Иван Павлыч с судна смотрел особенно торжественно, а все его слова звучали нравоучительно.
История Овчины громкая, жить бы ему в нашем доме на Буало! Мне ее рассказывали и всякий раз с новыми подробностями: Чижов, Струве, Евреинов, сам Овчина и, наконец, Ростик.
Овчина ходил к доктору Серову показаться с ухом. Сергей Михеич не поверил: как это возможно блохе заскочить в ухо! Сделал промывание. И оказалось – глазам не поверил – в тазике на самом дне болтаются свежие блошиные яйца, штук тридцать, и ни одной блохи, а из правого уха – ни одного яйца и только дрыгают ножки.
«До чего, значит, живучи нервные центры!» – заключали ученые рассказчики, а Евреинов добавлял: «и динамичны».
Я вышел с Ростиком на кухню. Мне хотелось расспросить о его отце и чем занят? Модеста Людвиговича Гофмана50 я знал в возрасте Ростика, еще до моей первой книги «Посолонь», а уж и тогда написал он «Историю русской литературы» – здесь, в Париже, издана по-французски в «переработанном виде». А Ростик с тех пор, как ходить научился, не пропускал ни одного моего весеннего вечера – двадцать чтений, по крайней мере, и на всех вечерах я ему делал особенный «обезьяний» бантик – знак первого и самого главного распорядителя.
Когда мы, накурившись, – у Ростика настоящие папиросы «своей набивки» – вернулись к Серафиме Павловне, Листин бормотал, повторяя заговор, ей только что сказала Серафима Павловна.
Есть различие: «колдовать» и «волховать»; «колдунья» – черная, «волшебница» – светлая. Серафима Павловна особенно говорила заклинания, по-своему – ее глаза были глазами волшебницы.
Я знаю этот Берестовецкий приворот: читать на новолуние:
Мисяцю молодой,
На тебе крест золотой
Ты повсюду бываешь,
Все на свете видаешь
Милуются цари с царями,
Короли с королями,
Князья с князьями,
Ольга с Леонидом
Так бы и навеки
Целовались и миловались,
Как голубь с голубкой
Не втишались.
Знать слова хорошо, но одними словами не обойдешься: их заклинательная сила без подтыка один бередящий обольщающий душу звук.
Серафима Павловна рассказывала, как еще гимназисткой, слыша однажды заговор, она Берестовецкой ведьме Бойчихе повторила слово-в-слово. Ведьма, взглянув «пугалищем» – остановившимися глазами в упор, сказала: «А мини нехай пусть хоть весь свит знает!»
И вот что я придумал: пусть Листин на новолуние шепчет (заговоры не читают, а вышептывают) – а Листин готов и всякий день и не только в указанное время, – прекрасно, но чтобы еще и какие-то магические проводники действовали и были в ее руках крепко.
Я предложил Листину: у меня много всего, есть камушки – «камень слышит», есть сучки – «деревья видят», есть рыбьи кости – «кость крепь». Надо бы, конечно, лягушечью «заднюю» косточку, а у меня только перья осьминога – я из них мои конструкции делал для «Икара» – пусть осьминог заменит лягушонка. И все эти кости, косточки, сучки, камушки и перья Листин, нашептывая заговор, подкладывает в карман Леониду, норовя хоть каким-нибудь местом, локтем, что ли, задеть его или ногой нечаянно.
Листин с радостью на все согласен: она уверовала в заговор и в мою кость-древо-каменную магию, а прикоснуться ей очень просто: да поправить ему фалду. Так и возьмет Леонида, и тогда перед ней откроется беспрепятственный ход к Лифарю, а вовсе не «по большим праздникам».
Все согласились следить за Леонидом, как на него будет действовать. А я принес из «кукушкиной» коробку с моей магией: выбирайте!
На чтение не осталось времени. Но все, расходясь, повторяли: «чтоб целовались и миловались, как голубь с голубкой не втишались, Ольга с Леонидом!»
Даже мне показалось, что и моя мышка что-то выпискивала.
– О чем ты поешь? – говорю, – и что так жалобно?
Мышка затихла.
Надоел я мышке вопросами, да и мне не понять ее. Теперь понимаю, мышка прощалась со мной: срок ей – первый весенний день.
* * *Трудно кузнецу не обжечься, а рыбаку не обмочиться, – да и не легко приворожить человека – если он морду воротит.
Листин непрерывно днем и ночью шепчет приворот на Леонида, а по середам в Опера на балете подкладывает ему в карман мое ворожующее сметие – кость, камень и дерево.
Леонид по-прежнему суров и непреклонен. И только одного не может понять, откуда у него в карманах набирается всякая дрянь. Он не курит – будь он курильщик, другой раз обожженную спичку, не знай куда бросить, сунешь себе в карман, и, конечно, окурок – такую драгоценность. Он не грешит ни табаком, ни «горячим». Не африканский доктор, не я, всеми грехами грешный, а табачным и кофейным тяжко.