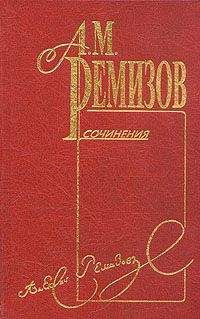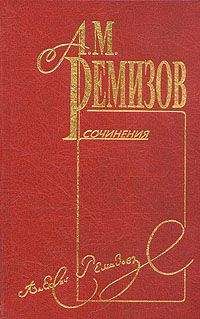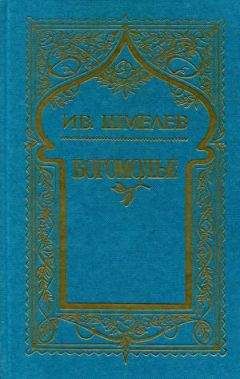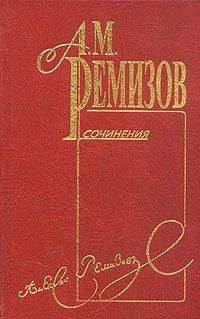Алексей Ремизов - Том 10. Петербургский буерак
Первая выходит из своей норки мышка, она открывает вечер. За мышкой Листин.32 За Листиным Утенок.
Утенок забегает и среди дня, когда ей вздумается: наша дверь никогда не закрыта, а ей недалеко – она ютится на 5-м, у Половчанки в комнате, где жила, «снедаемая тоской», Анна Безумная.
Мышка и две Ольги, и Листина и Утенка зовут Ольгой33, без них и вечер не вечереет.
Листин – из моей «Посолони», имя с русской земли, осенний, весь золотой, идет, шурша листьями, и золотом листит дороги, «слепышка». Листин – она видит чуть получше меня или почти ничего. А появилась она у нас в доме не просто: про Серафиму Павловну она ничего не знала, а про меня – да вот подходит к полвеку, как при моем имени повторяют неизменно: «пишет о чертях», – она вошла в «кукушкину» комнату с тайной мыслью встретить Лифаря. Лифарь ее «кумир и повелитель» – «навеки любимый» или которого она «любит до смерти» и верна до «мозга костей»; у нее и голос меняется при имени «Лифарь» – о Лифаре она говорит в нос, с твердым знаком.
Но странное дело, Лифарь с появлением у нас Листина покинул наш дом, как когда-то крысы ушли с нашего двора, напуганные зверинцем и клетками – работа мужа консьержки «Сестры-убийцы», надзирателя в Сантэ. Листин, она хорошо рисует зверей, но никаких клеток, в чем дело?
А ведь только чары Лифаря спасают Листина от отчаяния в ее бедовой жизни: она ждет среды – балета, чтобы еще и еще раз нарисовать его во «всех позах»34. Она и на кухню принесла свою папку с лифарями – тысяча рисунков, и еще рафию35 для брошек: за эти брошки она выручит только-только, чтобы заплатить за свою комнату без отопления и на билет в Опера.
Если остался суп, она с подливом съест, как куриный, и все кусочки, корочки и крошки подберет: она всегда голодная.
Утенок питается оливками: ей совсем не по душе, но она говорит, что «питательно», а главное – самое дешевое и без «тикеток». Название «Утенок» пристало к ней не по ногам, не косолапая, идет без перевалки, скорее семенит, но что-то в лице, ее нос – утенок! И другого «утенка» не найти в Париже; она выросла в Москве, в Лялином переулке и этим все объясняется. Ей тоже не очень живется и, безнадежно сжимая свои окоченелые детские руки, она не голосом, губами что-то выукивает, но мне понятно: ей ничего не остается, как только броситься… она хочет сказать в Сену, а выговаривает: «в Москва-реку». Но она все-таки держится, как и все в мире, мечтой – неосуществимой и неосновательной: ее очаровывает беспредметная мечта, что что-то непременно произойдет и тогда ее оливковая жизнь переменится.
Когда я мою посуду, начинается пение: поет Утенок. Хороший голос, но оттого ли, что «давление» у нее никогда не выше десяти или потому, что она такая мерзлая и, как Листин, голодная – изголодавшаяся – у нее никогда ничего не кончается. Подтягивает Листин, но от Листина шурша помощь не велика! Утенок, уж оборвав, поет другую песню.
Листин рассказывает о Лифаре, это же самое потом я еще раз услышу: Листин будет рассказывать Серафиме Павловне. И все ее рассказы сводятся к одному, как она вчера видела Лифаря, но подступиться нет возможности: его брат Леонид, как стена.
Несчастный обмерзлый Утенок, затянувшись окурком, рассказывает чаще всего о каком-то мяснике, когда-то у него много покупала, а теперь не может, и как этот мясник к ней хорошо относится и разговаривает всегда ласково, – и Утенок представляет доброго мясника.
К сожалению, не могу передать его трогательной речи: Утенок выражается по-французски. И одно скажу: мясник, конечно, француз, но по построению его французских фраз он удивительно похож на русского.
Кроме мясника, Утенок представляет не менее доброго консьержа и предупредительного «ажана» (городового).
И мне всегда ее очень жалко, что сгинули хорошие времена, когда она широко покупала провизию, не считаясь и не рассчитывая, и еще оттого жалко, что вершина слова для нее недоступна: а как бы поучительно было для меня, если бы она представляла не мясника, не консьержа, не «ажана», а как говорит Андрэ Жид, Полян, Элюар, или просто заученное из Расина.
Рассказы пересказаны, песни перепеты, посуда вымыта, крошки подъедены, и все бумажки, и масляные и закорузлые, тесно залегли в ордюре: отслужили! – и чайник кипит; еще подмести бы кухню, ну, да завтра утром.
На мышку я оставляю кухню: ей будет работа.
И с чайником все переходим в комнату к Серафиме Павловне. Там все-таки теплее: зажжен радиатор. Сейчас начнется вечернее чтение и произойдут всякие неожиданности, вызываемые нагревом.
Листин и Утенок рассаживаются на моем диванчике – двум сесть, где так все и навалено, прибрать не успеваю, подушка и два одеяла – шерстяным брусничным ночью питается благообразная мышь, а сейчас спряталась. И Листину и Утенку есть о что прислониться и прикорнуть на немножечко.
Листин и сюда приносит папку с лифарями и свои брошки, а я подложу ей штопать чулки – все, ведь, едва держится, изрешетилось и в прорехах, а она и из рвани сделает вещь: необычайная способность распутывать и чинить.
Утенку я даю разбирать какую-нибудь коробку с пуговицами: чтобы белые к белым, а черные к черным, да всякие паутинки б выбрала, а попадется булавка или иголка – положить отдельно, а которые заржавели – в сторону, на – выброс.
Про Утенка говорили, будто пригревшись на моем диванчике, от «расположения» пустил лужицу. Это неверно, Утенок ничего не пускал, это я, ставя чайник на радиатор, сослепу пролил и как раз к ногам Утенка. А чтобы оправдаться, про «лужицу» и сочинил. И что было удивительно, сам Утенок сначала отмахивался, а потом стал сомневаться, а потом – поверил: действительно, нечаянно пустил.
Чай пьем, с чем удается и не разбирая, только б не пустой: коробок у нас вся полка завалена в «плякаре»36 – я все делаю, чтобы достать: потом, ведь, и скоро, ничего не надо будет – я это чую, слышу и снится в мои редкие жгучие сны.
А чай самый разнообразный: и «оранжевый», пахнет апельсином, и из яблочной кожуры, напоминает русскую осень, и редко – настоящий. Я уж и с мышкой разговаривал: «денег… где бы достать денег!» – но мышка, и что она может? и только внимательно бисеринками играет.
А чаем напою и – слушайте!
Каждый вечер книга: я читаю и из истории, и Достоевского, и Толстого, и стихи – Фета, Некрасова, Тютчева. Стихи читает и Серафима Павловна: Пушкин и Блок, это ее, она читает без книги.
На чтение заглядывает нижняя соседка Анна Николаевна, а когда-то высиживала вечер до «третьих петухов», Блаженная, ее называли Кошатницей – шестьдесят покинутых котов кормила под виадуком на Микель-Анж, заходит с пятого Половчанка, теперь реже, ее отпугнула Кошатница своим безумным хохотом на смешное и совсем не смешное, и неожиданными озадачивающими вопросами, прерывая чтение. По субботам неизменно приходит Иван Павлыч.
Иван Павлыч, подтянувшись, у него всегда спускаются, втискивается на тот же диванчик – двум сесть, к Утенку и к Листину, с краю, облокотясь на валик. А Анна Николаевна умещается на судне, всегда прикрываю, локтем к Ивану Павлычу.
А я у стола под лампой, радиатор меня отделяет от диванчика, я близко к Серафиме Павловне, она сидит на кровати, и ей и мне всех видно.
Две гитары, зазвенев,37
Жалобно заныли
С детства памятный напев,
Старый друг мой, ты ли?
И памятью я прохожу все наши вечера, мне болью звучат стихи Аполлона Григорьева: в них его горечь – чего нельзя вернуть! и в этой цыганской горечи мое «не вернешь!» Все оживает – и ясно и видно – я вижу.
Вчера «Кроткую» Достоевского, а сегодня хочу совсем из другого. Иван Павлыч любит историческое, да и всем будет любопытно: «История бисера»38. Вся стена в комнате Серафимы Павловны в бисерных картинках,39стена будет живым наглядным примером.
И я начал Дударева «Бисер в старинном рукоделии». И с первых же строк вижу: скучища! И голосом пошел наводить краску. Это известно, и самую бездарную пьесу можно разыграть живо. И вдруг почувствовал, слышу свой голос в необыкновенной тишине и какой-то ласковый шепот, – и невольно остановился.
Спала Серафима Павловна. Спал Листин, носом в мое брусничное одеяло. Спал Утенок, уткнувшись, как дети, в теплое место Листина. Спал Иван Павлыч, ни в кого не утыкаясь, он застыл в недоуменном остервенении, руки на коленях, и пускал носом вроде звучащего мыльного пузыря – пузырь, опадая, трыкал, как разлетающиеся кошачьи искры. Спала Анна Николавна, почему-то взявшись обеими руками за голову – или из предосторожности, не уронить бы.
Я тихонько, с чайником для подогрева, вышел на кухню. Мышка оканчивала хвостиком тарелки – тарелки блестели. Я не стал беспокоить разговором мышку, молча выкурил свою горькую полыновую папиросу и с кипятком вернулся.