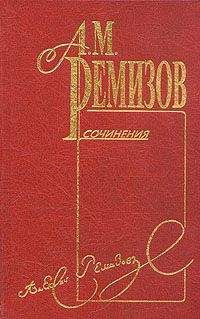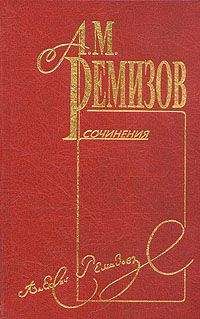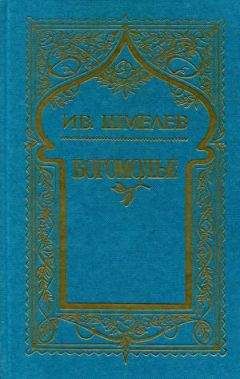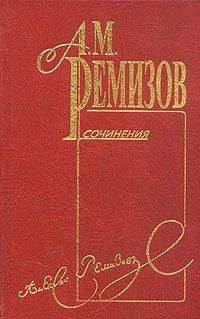Алексей Ремизов - Том 10. Петербургский буерак
С этого чудесного вечера каждую среду после спектакля Леонид пропускал Листина к Лифарю. Но этим дело не кончилось.
Я всех расспрашивал о Леониде: что же такое происходит и откуда такая перемена? Ни в какой приворот, ни в мою магию я не верил – все это ведь только шутка.
Ростик рассказывал, что в новолуние особенно Леонид появляется в Опера суровый, но руки уж не в карман – свободно держит.
Убедился ли Леонид, что бесполезно – и если уж на кого грешить, ну, конечно, на самого себя: сам себе подкладывает, или в карманах ничего не обнаруживается?
Ни косточек, ни камушков, ни сучков у меня больше нет – Листину подкладывать нечего, да и незачем; она и приворот-то вышептывает только по привычке, «автоматически».
– И что странно, – рассказывал Ростик, – при встрече с Листиным, Леонид рудеет и вдруг – непостижимо! – весь как расцветет. И без всякого гона Листин со своей папкой и астрономией – в «ложе» Лифаря.
Леонид стал замечать за собой необыкновенное явление: как только он увидит Листина, весь взбесится, но тотчас же голова проходит, и такое чувство, как будто никогда и не болела, в глазах светло и покойно.
И в Опера, это все заметили, в антрактах не Листин, а Леонид ищет Листина. Я понимаю, единственное средство, это не жабьи африканские пилюли, не гофманский веганин, а только эта встреча с Листиным, с невыносимым, надоевшим ему Листиным, снимет всю его боль. И оживленный, приветливый, сам он ведет Листина к Лифарю показывать рисунки.
Представляете себе, как это смотрит Лифарь на рисунки, не разгримированный, с туманом танца в глазах, – а вот смотрит, Леонид их ему подсовывает.
Лифарь, ткнув пальцем в какого-то тысяча первого Лифаря, сказал Листину:
– Душка!
Слово ничего не значащее, захватанное, истертое, но это слово звучит в устах Лифаря – «единственного во вселенной»!
Сияя, как сама весна – весна идет, я только не говорю, я чувствую ее, – расскажет Листин, вернувшись из Опера, вечером на кухне. И эта «душка» – венец ее победы – засияет царственно над ее бедным вязаным шлыком.
* * *В тот день в нашем доме совершилось важное событие и останется памятным. Или не так? Ведь даже налет и весь ужас разрушения – и кто это помнит: 3 июня 1940-го, рю Буало? – беспамятство на все и вообще – верное средство от всякой боли, и самосохранение жизни.
В полдень, я не знаю, почему выбран был такой ясный день, давно обещанный крысомор с волшебной дудочкой и кожаной сумкой через плечо, наконец, появился.
Из уважения, должно быть, консьержка Костяная-нога, отводя в сторону свои белесые жуткие «василиски», вела его под руку, а консьерж нежно подпирал сзади обеими руками. Эти подробности, может быть, и вымышлены, но для придачи важности событию уместны. А за консьержем выступал случайно зашедший в наш мышиный дом и не без спирту – спасибо, что вспомнил! – африканский доктор.
Моей мышке Слизухе я со всей волей своей приказал оставаться в доме и дудочку ни под каким видом не слушать.
– В дудочке много обещаний, – сказал я мышке, – это и привлекает. А на деле будет другое. И это не принудительные работы, ученые еще мышей не «электрифицировали», их неугомонную грызную энергию ни в какие рабочие силки еще не уловили, а это будет – на свалку.
Мышка вышла из норки и притаилась под Утенком. Утенок забежал среди дня «поцеловать Серафиму Павловну и меня», и как всегда, говоря это, выразительно заглядывал на полку, где стоят у меня бутылки: Утенок очень промерз.
Плешивый крысомор с волшебной дудочкой, ведомый консьержкой, с консьержем сзади, и африканским доктором позади, остановился у последней ступеньки нашей ковровой с медными прутьями осьмиэтажной лестницы.
Все двери были настежь.
И подудел.
В этом вызывающем дуце было что-то и доброе и веселое – призывные беззаботные переклювы, но в самой глуби звука мне прозвучала щемящая тоска: это то самое чувство, когда человек бродит из комнаты в комнату, не находя себе места, это когда нет на земле человеку места и не найти его и никакой надежды – эта душу выматывающая тоска, ее голос звучал во мне.
А крысомор все дудел, передохнет и опять.
И я видел «собственными» глазами, как из «кукушкиной» комнаты старшая мышь, а от Серафимы Павловны середняя благообразная, вдруг обе вышли, одна бросив «Последние Новости» доедать, Осоргина и Петрищева грызла, а другая, она спала и проснулась после ночи грызни моего брусничного одеяла.
И какой это был печальный путь дымчатых обреченных хвостиков – все ступени лестницы до последней, где дудела волшебная дудочка – весь осьмиэтажный ковер кишел мышами. Миллионы – большие и маленькие – мыши, мышата и мышонки – и все эти миллионы – и серенькие и бурые и совсем темные, безглазые, – собирались к дудочке, по дудочке – на свалку.
По спине африканского доктора мышь жалко и бессильно царапалась: она, нижняя, первая откликнувшаяся, от Евреинова. Но африканский доктор не обращал внимания, он сам был, как завороженный дудочкой: ему вдруг захотелось сейчас же, заголясь, выскочить на улицу, залезть на соседний госпитальный фонарь, забиться к газовому рожку и кричать бестолково, выкрикивая мудреные слова, и безобразно, а драгоценный спирт в его боковом набитом кармане раскупорился и прожигал драгоценные папиросы (сам он некурящий) табачный дух мутил его и обезноживал. А это мышами пахло.
И только одна моя мышка, как села под Утенком, так до конца и высидела.
– Прощайте!
И я захлопнул дверь – так с кряком захлопнется дверь в автомобиле с черным флагом – и этот звук стоит у меня в ушах:
Две гитары, зазвенев,
Жалобно заныли
С детства памятный напев,
Старый друг мой, ты ли?
С «мышкиной дудочки» начался прощальный вечер. Только никто не знает, что этот вечер будет последним.
– А какой необыкновенный сон я видела, – сказал Анна Николавна, – на ночь в постель я всегда кладу с собой грелку, и только что я пригрелась, как, не спросясь, залез на меня бык.
– Кого не спросясь? – перебил Иван Павлыч: он слушает всегда очень внимательно.
Утенок и Листин захохотали.
Анна Николавна смотрела удивленно и растерянно, не могла сообразить, чего тут не так, ну, смешно, потому что бык, но ведь это сон.
– Не спросясь, залез на меня бык, – снова начала она, – ноздрями дышит в лицо. А как залезать, подогнул себе ноги, было б ему поудобнее, и прямо мне на руки. Одну руку я выпростала и тихонечко пощупала: горячо. А он и не намеревался слезать. Думаю, хорош, нашел местечко, устроился, видно, на всю ночь. А спугнуть боюсь: забодает. А потом подумала: да и пускай себе, слава Богу, тепло. А сама, нет-нет, да и пощупаю: но уж не так горячо. Или, думаю, претерпелась я или быку надоело. И забыла совсем о быке, одно что лежу в тепле и стали мне гуси представляться, будто летят гуси. И вдруг замечаю, нет у быка ноздрей и не дышит, а торчат одни рога. И что-то мне беспокойно, я запустила руку под быка, пощупать – а горячего-то и помину нет, так один волос, и мне показалось, мокрый. Я руку отдернула, а он рогами как боднет – как две ледышки в меня, я и проснулась. И сразу почувствовала, сухого места на мне нет, вся-то мокрехонька и очень мне холодно. Поднялась, зажгла свет, так и есть: лопнула грелка.
Тут и я рассказал, как со мной было то же, и без всякого быка.
– Среди ночи я вскочил на оклик, да как-то неловко туфлю надел, зацепился чулок, стал я поправлять, спешу, пальцы липнут, поддеть не могу. Да кое-как справился, закутал Серафиму Павловну и вернулся на свой диванчик. И что-то мне холодно и беспокойно, гаяжу, а правая туфля как-то странно черная – у меня парусиновые летние – едва стащил, полна крови, лопнула вена.
И снилась мне кровь, но об этом я не рассказал, отголосок… сгустки крови, камни крови, бык крови. И посыпают меня песком, точно в гробу лежу, руки окостенели и голос пропал, а вижу.
А Утенку приснился коротенький сон и тоже звериный: едет, будто Утенок верхом на лисице, везет в чемодане сто банок конденсированного молока, и откуда ни возьмись – ажан: «что в чемодане?»
– А вы бы сказали: блошиные яйца. Ведь это во сне, сказать все можно! – заметил Иван Павлыч.
Но Утенок и во сне, сжав свои маленькие руки, мучительно взглянул на «ажана»54: «Деваться некуда!» А эта уж не «ажан», а целое стадо слонов. И только что Утенок протянул свою маленькую руку потрогать слоновый хобот, ан это не слон, а добрый мясник, сует ей в руку баранье жиго55. «Да мне и зажарить негде!» – говорит Утенок. «Изжарют». Тут Утенок и проснулся.
– Очень есть захотелось.
Очарованная лифарной «Душкой», Листин и без сновиденья, как в самом несбыточном утячьем сне.
Я забыл сказать, что Листину и еще повезло, и это очень важно. И случилось сегодня: она поступила рисовальщицей в кинематографическую студию. Теперь ей больше не нужно возиться ни с какими брошками, закинет рафию, да и комнату переменит: погрела боками чердак, довольно. А произошло это подлинное чудо неожиданно, как все чудеса на свете: ее ученик, когда-то она его рисованию бесплатно учила, теперь, через сколько лет, занял хорошее место и вспомнил о ней, сам отыскал ее, – так через него и нашлось ей место.