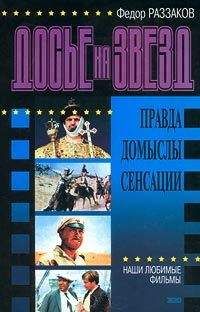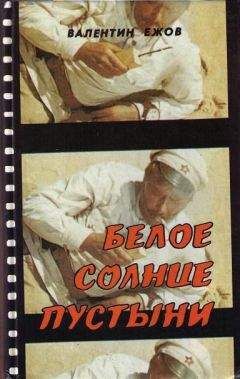Степан Злобин - Остров Буян
Марья Собакина от жениха не скрыла того, что невеста не отличается юностью и красотой, не скрыла она и того, что в женитьбе нужна поспешность, потому что невеста свела слишком близкое знакомство с приказным подьячим Карпушкой Рыжим. Траханиотов заколебался. Тогда старуха строго прикрикнула:
— Простодум! Был бы кто в родне у меня не женат, я бы того и женила, а не тебя. Чванлив! — И старуха добавила таинственным шепотом: — Коли государь, храни его бог, преставится, а царевич взойдет на престол, кто тогда выше Бориса Морозова станет?! Первый боярин будет, а ты ему свойственник! Уразумел? Карпушка, брат, не дурак: знал, к кому в родичи норовил… Ан кусок-то и вырвали: он пахал да сеял, а ты на свое гуменце увез!
После женитьбы и переезда в богатый дом, взятый в приданое, Траханиотов отдал Первушке все свое старое платье, хоть поношенное, но цветное, из дорогих тканей и сукон.
Первушка не слышал слов старухи Собакиной, но без чужой подсказки он догадался о том, что будет, когда царь Михаил Федорович умрет, а царевич займет престол. Он желал своему господину добра и надеялся, что когда-нибудь Петр Тихонович сам станет боярином. Об этом Первушка молил бога по воскресеньям. И когда в середине лета скончался царь Михаил, Первушка подумал, что бог не без милости. В испуге он тотчас же отогнал от себя крестом эту греховную мысль. Но все же стал ждать перемен в своей жизни.
3После восшествия на престол нового государя Алексея Михайловича[91] бывший его воспитатель Борис Иванович Морозов сделался первым боярином государства. Траханиотов занял при нем важное место, на котором обычно сиживали бояре: он получил в свое ведение Пушкарский приказ[92] всего государства.
Первушка теперь не ходил пешком. Он ездил в седле, одетый не беднее многих дворян, и жилось ему не хуже боярских людей. Он даже собрался одно время послать во Псков с попутчиком полтину денег да шитый платок для матери, о смерти которой он еще не знал.
Когда на добром игривом коне с выгнутой шеей, сопровождая Траханиотова, Первушка ехал по улицам, расчищая дорогу, он постоянно старался вытянуть плетью непроворного слугу какого-нибудь захудалого дворянина или даже, под хохот всех остальных товарищей, обдать подкопытной грязью и самого хозяина. Он хорошо представлял себе, как этот незадачливый холопишка с ворчливой бранью будет чистить единственный господский кафтан, мечтая о времени, когда сам сможет так же забрызгать грязью другого…
Первушка, казалось, возвысился больше, чем сам Траханиотов. Он со страстью и ожесточением отстаивал теперь честь своего господина от нападок враждебных холопов бояр Романова[93] и Черкасского, на каждом шагу стремясь доказать, что его господин на Москве потягается в силе с боярами.
Вражда между холопами была откровенней и жарче, чем между их господами. То, что между боярами и дворянами сдерживалось и таилось, — все прорывалось наружу у слуг и холопов, в повседневных стычках и беззастенчивых перепалках возле приказа или у дворца, где часами они ожидали господ.
В словесных схватках Первушка так навострился, что с первых же дней мог сойти за слугу самого Морозова, всю свою жизнь проведшего возле дворца. От его находчивых, задорных словечек стоял вокруг громкий хохот, распространялось в толпе злое веселье и наглая озорная удаль, подмывавшие остальных к участию в стычке. Так возникали целые словесные битвы, в которых враждующие стороны стояли стена на стену и поднимался такой содом от их выкриков, свиста и хохота, что дворцовые слуги, дворяне и стража должны были их унимать, чтобы бояре могли говорить с царем в Думе.
Первушка быстро смекнул, что в холопских перебранках можно разведать вещи, которых никто не выскажет вслух добром, и он не раз являлся к Траханиотову с тайным доносом о слухах и болтовне холопов враждебного стана. Полный искреннего желания угодить своему господину, Первушка думал всегда, что приносит новую важную весть. Однако случалось так, что Траханиотов заранее уже все знал сам, но он ободрял Первушку. «Смечай, смечай все, сгодится!» — ласково и насмешливо говорил господин.
— Ну что, Первой, каковы дела? — спросил как-то Траханиотов, призвав Первушку к себе.
И Первушка с таинственностью ему рассказал, что среди холопов идет слух, будто боярин Романов хочет женить молодого царя на дочери одного из бояр своего стана и тогда-де конец морозовскому царству и всех его ближних.
— Сказывают, уже гонцов по невесту погнали куда-то — в Касимов, что ли, — добавил Первушка. — И будто невеста та краше всех на свете…
— Они — в Касимов, а ты скорым делом сбирайся скакать в Переяславль, — приказал Петр Тихонович. — Собирайся без мешкоты. Вот письмо тебе припасено. Отвезешь столбец дворянину Илье Даниловичу Милославскому[94]. Две дочки его, одна другой краше…
«Вот ты, Первуня, и царский сват!» — подмигнув, пробормотал себе под нос Первушка и быстро собрался в дорогу.
В заезжем дворе под Коломной в одном из заночевавших проезжих Первушка признал романовского холопа Митяйку Носатого, лихого задиру и зубоскала. Митяйка был не по обычаю молчалив и важен.
— Доброго здоровья. Куда держишь путь? — степенно спросил он Первушку.
— В Перьяславль Рязанский, — ответил Первушка. — А ты?
— Стало, вместе поскачем: мне путь на Касимов.
У Первушки екнуло сердце. Он понял сразу, с каким делом ехал Митяйка.
И когда гонец Романова заснул, Первушка, не дожидаясь утра, расплатился с хозяйкой и тут же помчался дальше в темной синеве зимнего, едва брызнувшего рассвета.
«Пока что, а мы вперед на своей поспеем женить государя!» — думал он, погоняя коня…
4— Обрал? — спросил стольник Никифор Сергеевич Собакин у матери.
Марья Собакина только что возвратилась из царского дворца, где в этот день происходили смотрины невест. Двести красавиц свезено было со всех концов во дворец.
— Шестерых обрал, — сказала старуха, с тяжелой одышкой садясь на скамью.
— Куда ж шестерых?! Не петух, прости господи, государь Алексей Михайлыч! — удивленно воскликнул Собакин.
— Дурак! Поутру еще будут смотрины, тогда одну оберет. Сколь хлопот, сколь хлопот! — вздохнула старуха, словно на ней одной лежало тяжелое бремя собрать всех невест, помочь царю в выборе и женить его.
— Вчера-то аж молоко на торгу вздорожало — девки все в молоке купались, чтобы быть нежней… А князь Федор Волконский шадроватую[95] дочку привез. Белилами мазали, румянами притирали… Потеха! Боярин Борис Иваныч как увидел, аж за сердце схватился. Да как скажешь? Волконских род не последний!.. Сорочка розовая, венец в каменьях, а шадринки-то на роже, как звезды… — увлеченно болтала старуха.
— Ты б, матушка, чем брехать, молвила бы, каких домов шесть невест, — остановил ее сын.
— Прасковья Голицына, Марья Трубецкая, — откладывая на пальцах, считала старуха, — Рафа Всеволожского Фимка, Хованская княжна Матрена, Лыкова, — как ее звать, забыла, — псковского воеводы князя Алексея дочь, да князя Львова княжна Наташенька.
— Какая же из них полюбится государю, как мыслишь?
— Хороша Машенька Трубецкая, да против касимовской Фимки не устоять ей! — отозвалась старуха. — Раф-то Всеволожский, чай, загордеет нынче: вырастил девку — ягода в молоке!..
— Чему ж ты рада?! — воскликнул Собакин. — Женится царь на Всеволожской, тут и обстанут его Романовы да Черкасские — все пойдет прахом. Нам вся надежда, чтобы на Трубецкой либо на Львовой, а нет — на Хованской…
— Я, старая дура, не хуже тебя то смыслю. Да Фимка красой взяла. Куды там с ней спорить! За тем же и я возле ней пристала — то ей ожерелье на шее поправлю, то ленту ей зашпилю… — забормотала старуха, гордясь своей ловкостью и расчетливой переменой лагеря. — А ты как мыслишь — скакать к Трубецкой да ей угождать?
— Да ноне уж так, — сурово сказал сын, — где хлопотала, там хлопочи…
— На смех ты, что ль, старуху, меня подымаешь? — сердито сказала Марья Собакина. — То сказываешь, чтоб женить на Львовой али на Трубецкой, а то — назад, ко Всеволожской; куды ж мне теперь?..
— Краса девичья от бога. Сколь ни мудри над ней, краше не сотворишь, — пояснил Собакин, — в том бог волен и сила его… А пакостить божье творенье — то люди горазды… Ты бы пошла ко Всеволожским да так «пособила», чтоб государь на Трубецкой оженился.
— Чего ты мелешь!.. — в испуге прошептала старуха.
— Старую бабу да мне учить! — усмехнулся Собакин. — Бабку мою бояре не захотели царицей терпеть — чего натворили!.. Да мало ль…
И в этот вечер поехала Марья Собакина снова к дочери Рафа Всеволожского, Евфимии, — самой красивой из шести царских избранниц, приютившейся в Москве в доме одного из знатнейших бояр — Никиты Романова.