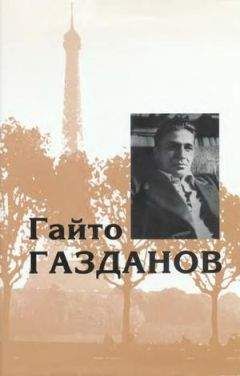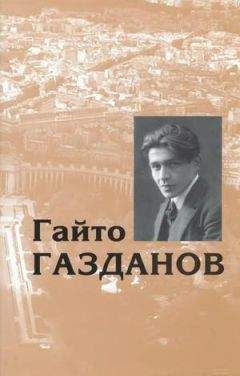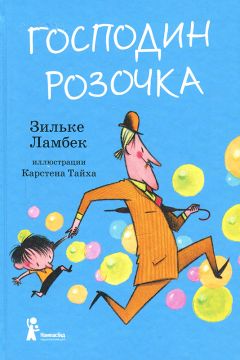Гайто Газданов - Том 1. Романы. Рассказы. Критика
– Qu'est ce qu'il chante, ce type-la?
– C'est un pope probablement[264], – ответил другой. И они замолчали.
Могилу засыпали, положили на нее цветы; и тут же оказался увядший белый букет, стоявший на столе в комнате сестры, – кто-то, по-видимому, захватил его с собой. Дама, сопровождавшая моего шурина, воткнула в землю толстый пучок мимоз, напоминавших те неизвестные, некрасиво расцветающие растения, которые попадались у нас в России среди бурьяна и диких трав. Едва мы отошли на десять шагов, могила стала не видна из-за тумана.
Когда мы подходили к воротам кладбища, дама пригласила шурина и меня к себе в гости. – Его нельзя оставлять одного, – шепотом сказала она мне по-французски; и мы поехали к ней. Горничная с красноватым лицом и неимоверно маленькими глазами сняла с нас пальто, и мы сели – я в кресло, Володя и дама на диване, и она стала его утешать. Речь ее походила на ровный шум без каких бы то ни было изменений, и внимание невольно отвлекалось в сторону, – и только изредка я замечал, что она говорит довольно странные вещи о необходимости немедленного забвения, которое нужно для того, чтобы впоследствии воспоминание ничем не омрачалось; в обычное время эта явная несообразность, наверное, удивила бы моего шурина; но он едва слышал, что ему говорили, и только раскачивал все время голову вправо и влево, подперев руками свое опухшее и изменившееся лицо. Лишь один раз он быстро забормотал:
– Что вы говорите, что вы говорите?
Но потом опять опустил голову и больше ничего не произнес.
Тем временем стемнело. От долгого сидения у меня почти прошла боль, и тогда я увидел, что в комнате совсем темно и прохладно. Но вот в столовой загорелся свет.
– Вам необходимо подкрепиться, – сказала дама; и мы поднялись и пошли обедать.
Дама пропустила Володю вперед и сказала мне опять потихоньку:
– Надо, чтобы он выпил шампанского и забылся. Ему станет легче.
– Шампанского? – подумал я. – Что за абсурд?
И ответил:
– Мне это не кажется необходимым. Но если вы находите, что так лучше…
– Да, да, – прошептала она. – Я знаю по опыту.
Я пожал плечами; ее поведение становилось все менее и менее понятным. Но спорить с ней мне не хотелось.
Мы сидели, молчали; и дама все время наполняла бокал Володи, который пил и, по-видимому, не вполне сознавал, что он делает. Вскоре он захмелел: он начал улыбаться сквозь слезы и даже сказал:
– Какая вы милая. Спасибо.
– Пейте, пейте, – шептала она, кивая головой. – Надо пить, вам станет легче.
Розовые ее ногти, покрытые густым слоем лака, блестели при свете лампы, когда она брала бутылку и наливала вино. Ее глаза, очень черные, стали оживленными; было похоже на то, что вся эта странная обстановка доставляла ей какое-то редкое и запрещенное удовольствие.
Я почти не пил вина; но мясо, которое подала все та же горничная, было очень пряное, с непривычным для меня, но не неприятным привкусом; блюдо, приготовленное из сладковато-кислых овощей и обильно посыпанное перцем, тоже было необыкновенное. Потом принесли громадные груши, которые дама ела медленно, но с таким видимым наслаждением, что мне показалось, будто я уловил в ее глазах выражение спокойного сладострастия. После груш был кофе; пустые бутылки тотчас же заменялись другими. Потом стукнула дверь; горничная ушла спать, и мы остались втроем. Я испытывал необычное стеснение, мне становилось то холодно, то жарко; и у меня было такое чувство, точно мы остались одни в этой квартире, чтобы совершить какую-то нехорошую вещь. Я проглотил слюну и вспомнил, что совершенно так же чувствовал себя, когда впервые остался наедине с женщиной.
Мой шурин сидел, тяжело опустив голову на стол; он не мог больше пить. Тогда дама поднялась, подошла ко мне, и зрачки ее быстро приблизились к моим, – хотя я ясно видел, что она не придвигалась, а стояла неподвижно, опершись руками на стол, слегка шевеля своими пальцами со сверкающими ногтями, – и так и застыла; и воздух, отделявший ее от меня, стал ощутимым и нежным; и вот тело ее, в обтянутом шелковом платье, начало медленно качаться передо мной. – Неужели я пьян? – подумал я. Мне понадобилось все напряжение воли, чтобы сидеть на своем месте. Особенно трудно мне было удержать невольное движение рук; и тогда я сильно сжал пальцами край стола. Ее брови поднялись, и, когда она совсем раскрыла глаза, я увидел в них то же выражение, которое заметил во время обеда, за грушами; только теперь оно было в тысячу раз сильнее. Я чувствовал, что необходимо заговорить, иначе я перестану владеть собой. Я сказал:
– Вы пьяны, это совершенно несомненно.
– Я тоже пьян, – вдруг проговорил мой шурин, поднимая голову.
Она отошла и села на свое место. Руки мои вновь стали послушными и пальцы гибкими; я даже побарабанил по столу. Потом я обратился к шурину и сказал, что, по-моему, пора идти домой; и я взглянул на свои часы – было половина второго. – Придется брать автомобиль, – подумал я, – метрополитен уже не ходит.
– Подождите, – сказала дама. – Вам ведь некуда торопиться. Перейдемте в гостиную.
Я опять опустился в кресло. Справа от меня стоял небольшой шкаф с книгами; верхняя его часть была затянута тонкой, но непрозрачной зеленой материей. В шкафу этом были книги Бодлера, Гюисманса, Эдгара По, Гофмана и том петербургских рассказов Гоголя в роскошном издании. Затем я отдернул зеленый полог и взглянул на верхнюю полку. На ней стояло двадцать или тридцать фигурок из слоновой кости, неприличных, но очень хорошо сделанных. Мое внимание, однако, было привлечено не этим. В самом углу полки, закрытые крохотной ширмой, лежали три статуэтки из черного дерева. Одна изображала лежащую на спине женщину, другая – обнимающихся людей и третья – дракона. Статуэтки были сделаны из очень черного и блестящего дерева. Лежащая женщина с тяжелыми, каменными глазами, казалось, плыла на спине; вино ударило мне в голову, когда я посмотрел на нее, и я сразу представил себе, что она спит, и плывет, и видит во сне черные берега с неподвижными деревьями и дремлющими чудовищами, – и потом ее сон переходит к видениям жестокой и мрачной любви. И я перевел глаза на дракона. Разные части человеческих тел, мужских и женских, переплетались на его груди; черные гладкие руки девушки, которая была под ним, охватывали его спину. Деревянный хвост дракона оканчивался змеиными головами. Рядом с ним были обнимающиеся любовники; их тела были так соединены, что оставались видны только спины, ноги и головы; и колени женщины были повернуты вправо и влево тем бесконечно знакомым движением, которое сделала бы всякая женщина, – и меня поразила необычайная верность этого положения, – голова же ее с тяжелыми волосами была сильно откинута назад. Но лицо мужчины было рассеянным и враждебным – как на известном рисунке Леонардо, которого, впрочем, японский скульптор, может быть, не знал.
Была поздняя ночь, и давно никакой шум не доносился с улицы; я все сидел в кресле и уже успел совершенно привыкнуть к этой квартире и обстановке, в которую попал впервые; и я думал, что я давно уже все это знаю – не то по чьим-то чужим воспоминаниям, не то потому, что подобные образы и вещи я видел, быть может, когда-нибудь во сне, а наутро забыл. И вот, когда я перестал об этом думать и только изредка останавливал взгляд то на рассеянном лице мужчины, то на каменных глазах плывущей женщины, – дама быстро встала с дивана, на котором лежал мой шурин, и, пройдя мимо меня, выдвинула на середину комнаты граммофон.
– Вы оба молчите, – сказала она, – и в комнате стоит неприятная тишина. Мы сейчас устроим музыку.
– Это прекрасная мысль, – сказал я и закрыл глаза; и женщина на спине проплыла передо мной. Я даже забыл, что дама заводит граммофон, как вдруг при первых же звуках музыки я узнал тот мотив, который слышал несколько недель тому назад, ночуя у знакомых. Опять это плачущее волнение металлического трепета в воздухе охватило меня; и я вспомнил, как один из моих друзей, художник, человек необычайного таланта, говорил мне, осуждая чью-то картину:
– То, что мы видим, это воображение, а воображение – это музыка и звуки, – хотя это и кажется невероятным. Вот я представляю себе Иова: он сидит в глубине времен, сдирает черепком свои струпья и протяжно вздыхает. И разве искусство не должно быть наивно? Помните, как Бог говорит о могуществе своего гнева и о том, что его боится даже носорог, который силен и неуязвим? Помните, как он определяет неуязвимость носорога? Он говорит: «Свисту дротика он смеется». Нет, все это не так просто. Когда я читаю Библию, я чувствую и слышу и военные крики, и плач женщин, которых Бог наказал бесплодием, и говор войск, и шаги Давида по песку. Но бывают, конечно, и минуты безмолвия. Вот посмотрите на это.
И он показал мне картину, нарисованную тремя карандашами – красным, черным и коричневым. Она изображала сражение. Я увидел египтян с сухими смуглыми лицами, и коричневую кожу еврейских воинов, и красную кровь, которая ровной и широкой струей лилась из груди человека, заколотого копьем. Вдали, у стены крепости, нарисованной простыми детскими линиями, – зубчатой крепости с круглыми дырками в стенах, – невероятно исхудавшая женщина ела жирную кость, погрузив в нее свое острое и тонкое лицо.