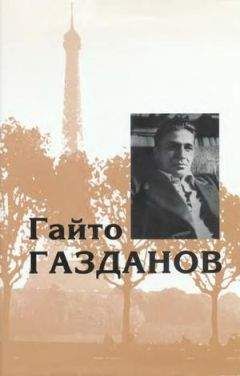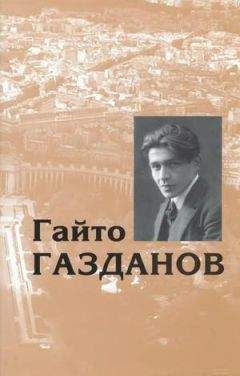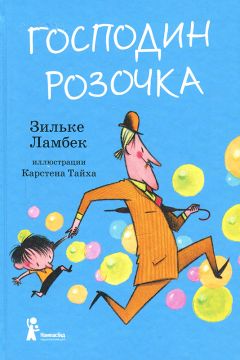Гайто Газданов - Том 1. Романы. Рассказы. Критика
– Je suis envoye par le commissariat du quartier. C'est pour Facte de deces[259].
Он вошел в комнату и неохотно и бережно снял свой котелок. Он отдернул затем белую материю, покрывавшую труп моей сестры, и хотел взять ее пальцы, но заметил свечу и не сделал этого; он приподнял локоть руки, подержал его в воздухе и бросил; локоть безжизненно упал, и свечка в руках сестры склонилась на сторону.
– Oui, elle est bien morte, – сказал старик. Потом он обратился ко мне: – C'est vous le mari de cette femme?[260]
De cette femme? Я в эту минуту особенно сильно почувствовал, что я живу в чужой стране и чужом городе. Конечно, моя сестра была для этого старика только «cette femme» и «bien morte». Я покраснел от стыда и гнева, и мне захотелось сказать старику, что очень скоро он тоже будет так же мертв, как моя сестра. Я не удержался и ответил:
– Vous etes trop vieux vous-meme, monsieur. Pourquoi parler vous de cette facon?[261]
И тотчас же я подумал, что напрасно сказал это и что смешно требовать от полицейского врача деликатности – как нельзя требовать образованности от горничной или добродетельности от проститутки.
Но старик понял меня.
– Oui, je suis tres vieux. Je mourrai aussi, jeune homme, ne vous en faites pas. Mais qui etes-vous? Vous n'etes pas le mari de cette femme?
– Non, je suis son frere.
– Bon. Donnez-moi des renseignements.[262]
Он записал то, что ему было нужно, и ушел, держа свой котелок в руках. Через несколько минут после его ухода приехал Володя; он плакал, не переставая, и сказал, что похороны будут завтра в девять часов утра.
Я никогда не забуду этого бесконечного путешествия по Парижу вслед за быстро едущим катафалком. Ноги у меня болели в то утро, как никогда, я шел, и отставал, и потом опять догонял процессию. Люди, которых я раньше не знал, шли за гробом сестры; многие из них даже не были знакомы друг с другом. Моего шурина вела под руку какая-то дама лет тридцати, принимавшая, казалось, самое близкое участие в его горе; он шел, потупив голову, и изредка взглядывал на свою спутницу благодарными глазами, из которых текли слезы. То, что он плакал все время, несколько удивляло меня; он знал уже год тому назад совершенно точно, что его жена умрет, а последние месяцы и недели видел ее уже почти умершей. Но на него, вероятно, как и на многих других людей, действовала обстановка, в которой это происходило, – похороны и отпевание сестры в церкви, где деловитый священник сказал обстоятельно, что панихида с хором будет стоить столько-то, а если без хора, то дешевле; но он рекомендует с хором, что, по его мнению, лучше. Все покупали свечи; потом служка, плотный человек с красным лицом, удивительно напомнивший мне одну старую пьяницу-кухарку, которую я знал в России, – служка спешно забрал обратно едва сгоревшие на четверть свечи и успел еще пройти между присутствующими на панихиде с какой-то тарелкой, куда собирал деньги; и все в церкви было организовано точно и безупречно с коммерческой точки зрения. Я не был в православном храме много лет и поэтому стал уже забывать, какой он; теперь же меня неприятно поразила тупая самоуверенность всех этих священников, дьяконов и других, своих в церкви, людей. У них, может быть, незаметно для них самих, был такой вид, точно они знают что-то важное, чего не знают непосвященные; и это вызвало у меня чувство неловкости. Они же все делали очень уверенно: распоряжались о том, куда поставить гроб, и священник, только что говоривший обыкновенным голосом о цене отпевания, внезапно и без всякой паузы перешел к тому странному и неестественному тону, каким читаются в церкви молитвы И я видел, что большинство присутствующих ощущают робость перед этим толстым мужчиной в длинной и смешной одежде, который один знает, что делать, и правильно понимает все происходящее. Я всегда во время богослужения испытывал отвращение и скуку; и потому скоро вышел из церкви и ждал на улице, пока кончится отпевание. Было очень сыро и туманно.
Потом начались проводы гроба. Раньше, когда я встречал в Париже похоронные процессии, мне казалось, что они двигались медленно; в течение первых же минут после выезда катафалка из улицы, на которой находилась церковь, я убедился, что это ошибка. Все шли очень быстро. Священник, сопровождавший тело моей сестры на кладбище, чтобы там, над могилой, читать еще какие-то молитвы, потребовал автомобиль: его «духовная одежда», как он сказал, привлекает внимание французов. Ему наняли автомобиль; но, на его несчастье, вместе с ним села одна любознательная француженка, знакомая сестры, которая стала его расспрашивать, что он думает о разнице между православной и католической церковью. Он же не говорил по-французски; и она вылезла из автомобиля с растерянным видом и сказала мне:
– Но он сумасшедший, ваш поп. Он машет на меня рукой и ничего не говорит. Он или сумасшедший, или дикарь.
Я так плохо себя чувствовал, мне было так больно – ботинки неумолимо жали мне ноги, – что я просто не мог ей ничего объяснить и ограничился тем, что ответил:
– Да, да, это очень возможно.
Второй раз за короткое сравнительно время мне опять пришла в голову мысль о том, как давно и безнадежно я живу за границей. Похороны в России были совсем другими; там были заросшие кладбища, тихие улицы окраин, крестьяне, снимавшие шапки; и похоронная процессия медленно двигалась в тишине и важности. Здесь же дорогу ежеминутно пересекали автомобили, трамваи, автобусы; сквозь туман доносился непрерывный грохот; кругом возвышались большие дома, и все было так не похоже на Россию, что я вдруг вспомнил это и удивился – хотя много лет жил в Париже, знал его лучше, чем какой-либо другой город, и никогда не находил в его облике ничего неожиданного или нового.
Наконец началось предместье, фабричное поселение с трубами и однообразными зданиями заводов; на улицах стали встречаться плохо одетые люди в кепках, рубахах без воротников и ночных туфлях; иногда попадались неряшливые женщины с жидкими космами волос на затылке, с большими красными и лиловыми от холода руками; мостовая стала ухабистее – и я сразу же это заметил, так как мне сделалось больнее идти. Еще через десять минут катафалк въехал на кладбище. Земля была глиняная и мокрая, могилы чересчур маленькие, узкие и плохо вырытые; из стен могилы высовывались длинные корни деревьев, которые цеплялись за гроб, когда его на очень растрепанных веревках опускали вниз. Рабочие говорили друг другу:
– Doucement, mon vieux, doucement! La![263]
Вдруг стало очень тихо. Густой туман медленно двигался над кладбищем; на маленьких деревянных крестах пестрели все те же надписи: «родился тогда-то, умер тогда-то», – и нужно было небольшое напряжение внимания, чтобы узнать, наконец, кто похоронен здесь: старик или младенец. Все, кто провожал тело моей сестры, молча стояли вокруг могилы; ноги их глубоко уходили в мягкую и вязкую глину. Рабочие, кончив опускать гроб, тоже остановились. Мне очень запомнились эта неподвижная группа людей и глиняные стены ямы с выступающими длинными корнями, которые вдруг показались мне жуткими и незнакомыми, как флора неизвестной страны, – потому что, думал я, теперь все, чем жила моя сестра, она оставила для того, чтобы быть зарытой тут и окруженной этими корнями, которые здесь так же нужны и естественны, как стволы и листья наверху, на земле, где она жила до сих пор и где мы еще жили сегодня.
Как медленно двигался туман! Я бы не удивился, если бы в ту минуту я бы увидел, что все исчезает и скрывается с глаз – так, как пропадает незаметно для моего внимания какой-нибудь образ моей памяти, когда я начинаю думать о другом. Это ощущение было бы, наверное, еще более сильным, если бы непрекращающаяся боль от узких ботинок не возвращала поминутно мою мысль все к одному и тому же вопросу: когда у меня будет возможность сесть? Я надеялся, что это случится скоро; но я совсем забыл о священнике, который, приподняв одной рукой свою длинную рясу, подошел к могиле и начал служить панихиду – и один из могильщиков тихо спросил другого:
– Qu'est ce qu'il chante, ce type-la?
– C'est un pope probablement[264], – ответил другой. И они замолчали.
Могилу засыпали, положили на нее цветы; и тут же оказался увядший белый букет, стоявший на столе в комнате сестры, – кто-то, по-видимому, захватил его с собой. Дама, сопровождавшая моего шурина, воткнула в землю толстый пучок мимоз, напоминавших те неизвестные, некрасиво расцветающие растения, которые попадались у нас в России среди бурьяна и диких трав. Едва мы отошли на десять шагов, могила стала не видна из-за тумана.
Когда мы подходили к воротам кладбища, дама пригласила шурина и меня к себе в гости. – Его нельзя оставлять одного, – шепотом сказала она мне по-французски; и мы поехали к ней. Горничная с красноватым лицом и неимоверно маленькими глазами сняла с нас пальто, и мы сели – я в кресло, Володя и дама на диване, и она стала его утешать. Речь ее походила на ровный шум без каких бы то ни было изменений, и внимание невольно отвлекалось в сторону, – и только изредка я замечал, что она говорит довольно странные вещи о необходимости немедленного забвения, которое нужно для того, чтобы впоследствии воспоминание ничем не омрачалось; в обычное время эта явная несообразность, наверное, удивила бы моего шурина; но он едва слышал, что ему говорили, и только раскачивал все время голову вправо и влево, подперев руками свое опухшее и изменившееся лицо. Лишь один раз он быстро забормотал: