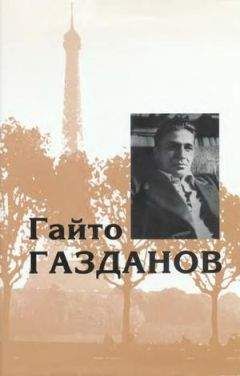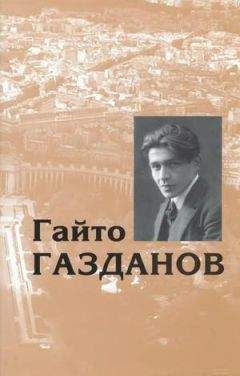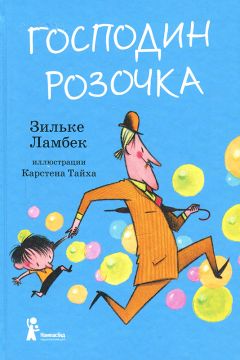Гайто Газданов - Том 1. Романы. Рассказы. Критика
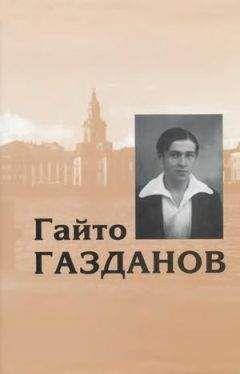
Обзор книги Гайто Газданов - Том 1. Романы. Рассказы. Критика
Гайто Газданов
Собрание сочинений в пяти томах
Том 1. Романы. Рассказы. Критика
Л. Диенеш. Писатель со странным именем
Посвящается Be. М. Сечкареву
Я уверен, что когда-нибудь… собрание сочинений Газданова будет издано… не в Париже или Нью-Йорке, а в Москве…
Юрий Иваск (1970)В этом кратком предисловии не место ни для биографии, ни для подробного анализа творчества Гайто Газданова – я попытался это сделать в своих работах. Да и российскому читателю интереснее, мне кажется, если я расскажу о том, что ему, по всей вероятности, еще мало известно, – например, о том, какой была писательская и критическая судьба этого замечательного русского прозаика на Западе, где он прожил почти всю свою жизнь и где так же, как и в России, мы все еще ждем его полного признания.
Впервые с именем Гайто Газданова я познакомился в 1973 году, в семинаре по истории зарубежной русской литературы профессора Всеволода Михайловича Сечкарева, известного ученого и прекрасного историка русской литературы, любимого всеми преподавателя и блестящего оратора, чьи лекции привлекали сотни студентов и научили их наслаждаться шедеврами русской литературы в Гарвардском университете (Кембридж, штат Массачусетс), где я был тогда аспирантом. В семинаре мы читали самых признанных, маститых классиков эмиграции: Бунина, Мережковского, Гиппиус, читали также известных, но еще не ставших общепризнанными классиками русской литературы ни, разумеется, в советской России, ни даже на Западе – Георгия Иванова, Ирину Одоевцеву, Владислава Ходасевича, Марка Алданова, Бориса Зайцева, Ивана Шмелева, Михаила Осоргина, Павла Муратова и многих других.
Но откровением оказались не эти имена (вернее, не только эти – богатство их творчества в эмиграции ошеломило нас всех), а другие, новые, мне (и не только мне) тогда еще неизвестные, так называемые молодые авторы, поэты и прозаики, о которых мы, будущие слависты и русисты Америки, люди все-таки не совсем невежественные, никогда до этого не слышали. Это молодое, второе поколение в то время, к сожалению, было все еще почти незамеченным, за одним, всем известным исключением: именно в ту пору достигла своего апогея слава Владимира Набокова, еще при жизни признанного классиком, величайшим американским прозаиком XX века – так его многие величали за вклад в литературу США. Естественно, мы, молодые русисты, знали, что был и русский (и тоже великий) Набоков. Но чего мы не знали, так это того, что, кроме Набокова, были и другие, пожалуй, не менее крупные таланты, что рядом с Набоковым жила и творила целая плеяда интересных писателей, все еще ждущая признания. Не только в среде аспирантов, но и среди большинства западных специалистов, за исключением Bс. М. Сечкарева, Глеба Струве и еще десятка эмигрантских ученых (я не говорю сейчас о почти никогда не существовавшем эмигрантском читателе, который если когда-либо и жил, то к тому времени просто уже обитал в мире ином, – новой же, бродско-солженицынской эмиграции еще не существовало), почти никто не знал о Борисе Поплавском, Нине Берберовой, Анатолии Штейгере, Георгии Пескове, Василии Яновском, Юрии Фельзене, Илье Зданевиче, Владимире Смоленском, Сергее Шаршуне, Александре Гингере, Игоре Чиннове, и, наконец, никто не подозревал о писателе с таким странным, нерусским именем: Гайто Газданов.
И мы стали их читать. Они нам понравились по-разному. Некоторые, особенно поэты, поразили своим голосом, стилем, образами, своей музыкой стиха; другие, особенно прозаики, оказались менее состоятельными – похоже, не всем удалось полностью самореализоваться; третьи представляли интерес в первую очередь как экспериментаторы, новаторы стиля, языка или композиции, но, увы, на зрелых художников слова «не тянули». Были, однако, исключения. Одним из них можно считать Гайто Газданова. Достаточно было прочесть несколько страниц – и сразу становилось ясно: здесь звучит музыка, язык звенит, светится, даже пахнет (как о том не раз писал Адамович), это настоящее искусство слова – не эксперименты, не опыты, а достижения, причем небывалые, экстраординарные. Новый голос звучал так прозрачно, с такой невероятной легкостью и кажущейся простотой, что было совершенно непонятно: как он это делает? в чем тайна газдановской речи? Ее хотелось слушать и слушать, и сразу возникло огромное любопытство: что он еще написал? что о нем думали корифеи зарубежной России? И когда я узнал, что в начале 1930-х годов о Газданове заговорили как о втором, наряду с Набоковым, молодом писателе, подающем большие надежды, и даже как о его возможном сопернике, – не осталось сомнений: это писатель перворазрядный, очень высокого уровня, и «открыть» его, быть первым его исследователем – большая честь, большая награда.
Вел свой уникальный семинар (едва ли не единственный в своем роде, насколько мне известно, для тогдашней Америки) Всеволод Михайлович очень умно. Он знал: здесь сокрыты большие возможности для будущих исследователей, и очень поддерживал и одобрял студентов и аспирантов, когда они решали избрать эмигрантскую тему для своих диссертаций. Положение в это время на Западе было не очень благоприятным для таких начинаний. Естественно, «последние могикане» первой и второй эмиграции, такие как, например, Глеб Струве, Владимир Вейдле и Юрий Иваск, продолжали писать о литературе русского зарубежья, но почти все созданное ими было написано и напечатано по-русски – для русскоязычной западной прессы и для русского эмигрантского читателя, а не по-английски – то есть не для западных литературоведческих журналов и западного читателя. Большинство американских и западноевропейских славистов относилось к так называемой эмигрантской литературе снисходительно, если не откровенно иронически или даже враждебно. Для одних ее как бы не существовало, для других она имела совершенно второстепенное значение – это считалось «несерьезным» делом (категории «специалист по эмигрантской литературе» еще не существовало – она только зарождалась, медленно и с трудом, пока без признания и без уважения к профессии). Бытовало мнение (и, к сожалению, не только среди нерусских «специалистов»), что в эмиграции литература не выживет, что в этих условиях ее просто не может быть, а если она все-таки и есть, то скоро умрет, ибо создать новую, чего-то стоящую русскую литературу вне России совершенно немыслимо, это идея абсурдная, нелепая, – и все это вопреки в то время уже всемирно известному Набокову. Нет-нет, говорили: Набоков – исключение, лишь подчеркивающее правило. Нужна была «третья волна», чтобы об эмиграции стали говорить и думать иначе. Ведь не перестали же быть великими русскими писателями Бродский и Солженицын оттого, что пересекли границу?
Я помню, с каким наслаждением, с какой даже жадностью я стал искать и читать этого неизвестного мне писателя со странным именем – а найти его было легко благодаря невероятно богатой коллекции Библиотеки Гарвардского университета, – и чем больше я читал, тем больше убеждался: вот настоящее искусство! И каково же было мое удивление, когда я узнал, что об этом замечательном писателе почти ничего не известно, что о нем, кроме разве что небольших рецензий, ничего не написано. И какова была моя досада, когда я узнал, что умер он лишь за год перед тем, как я открыл его для себя весной 1973 года. Когда-нибудь я, возможно, напишу «историю одного исследования», историю моей «газдановианы», расскажу о встречах в Европе и Америке в 1975 году с вдовой писателя Фаиной Дмитриевной Ламзаки, с еще живыми друзьями и знакомыми Газданова, с писателями и критиками, его коллегами по радио «Свобода», об истории его архива и о том, как он попал в Америку. Придется, видимо, написать вообще о 1970-1980-х годах, когда я был практически единственным человеком в мире, который «занимался» Газдановым; в те годы я добился переиздания на русском языке его романа «Вечер у Клэр» в знаменитом американском издательстве «Ардис», издал о нем монографию в Германии и составил его библиографию для прекрасной парижской серии эмигрантских библиографий.
* * *Можно думать об эмиграции не как о несчастье, а как о новой жизни, о новой задаче, даже как о некоем освобождении. Парадоксально, но бывает так, что преодоление трудностей само по себе становится великим стимулом и приводит к непредвиденным, зачастую весьма положительным результатам. Да, работать без стимула, ни для кого, – тяжелая доля, но, как всегда, есть и оборотная сторона медали: можно отнестись к этому как к «вызову», как к борьбе за преодоление препятствий, как к задаче – духовной, душевной, даже художественной – найти смысл жизни внутри себя, если ничто вокруг не помогает, если ничто кругом этому смысла не придает. Страшное одиночество, отсутствие читателей, иной, отличный от российского, стиль жизни могут погубить писателя – или, напротив, помочь ему, дать стимул обрести новые человеческие и художественные силы и цели. Отношение к этому Набокова сегодня общеизвестно, но оно было известно и разделялось многими еще и в довоенные времена. Часто не только говорили: «Мы не в изгнании, мы в послании», – но и действительно верили в то, что настоящая русская литература и культура сохраняются именно за рубежом, что Серебряный век продолжается не в Ленинграде, а в Париже, что эмигранты «унесли Россию» в себе и что все равно, рано или поздно, они в Россию вернутся. Набоков знал, что «веку вопреки, / тень русской ветки будет колебаться / на мраморе моей руки»; и Ходасевич был уверен, что наступит время, когда «в России новой, но великой, / Поставят идол мой двуликий». А набоковский Федор говорит в «Даре»: «Мне-то, конечно, легче, чем другому, жить вне России, потому что я наверняка знаю, что вернусь, – во-первых, потому что увез с собой от нее ключи, а во-вторых, потому что все равно, через сто, через двести лет, – буду жить там в своих книгах…»