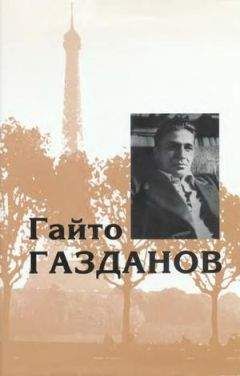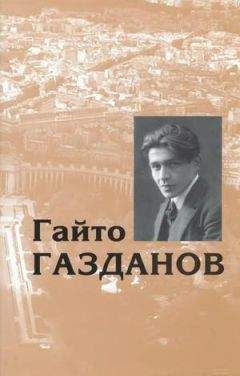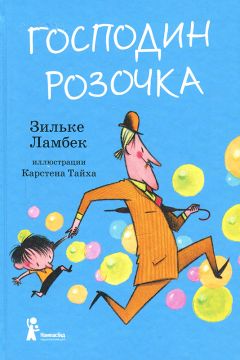Гайто Газданов - Том 1. Романы. Рассказы. Критика
В доме встали поздно; и, когда я рассказал, что утром где-то неподалеку играли необыкновенную мелодию, мне ответили, что я, должно быть, ошибаюсь: ничего такого быть не могло. Но я твердо знал, что это неправда и что мелодия, звучавшая утром, не могла не существовать; или, думал я, даже если она не существует, то она все равно скоро появится, так как она уже живет в моей памяти. И я ушел от знакомых, и это утро, и музыка, и неуютный диван перестали быть моим впечатлением, и когда и думал и вспоминал обо всем этом, я рассказывал сам себе о чувстве неловкости прерванного сна и неизвестной мелодии, но для того, чтобы это было правдоподобным и интересным, мне приходилось обманывать себя и придумывать такие вещи, которых тогда не происходило, но которые сами по себе казались мне поэтическими и потому могли только обогатить мое воспоминание и, вместе с тем, лишить его внешней самостоятельности и неожиданности, всегда неприятных для моего сознания. Это медленное искажение воспоминания было невольным; и уже через несколько дней я прибавил к этой музыке фламинго, будто бы проходившего по комнате, и красный закат над незнакомым городом – которых я тогда не видел, которые, впрочем, может быть, были очень близки этим звукам и лишь не успели дойти до моего внимания именно в тот момент. Но вот уже и это перестало доставлять мне прежнее удовольствие; и как я ни силился вспомнить мотив, который слышал, это было невозможно. В одном я только был уверен – именно в том, что если я его где-нибудь услышу, то непременно узнаю. И я забыл это.
В то время сестра моя была тяжело больна и никакой надежды на ее выздоровление не оставалось. Случилось так, что ее муж уехал за границу на две недели, а я остался ухаживать за ней. Обыкновенно я сидел недалеко от ее кровати и рассказывал ей все, что мне приходило в голову. Она не отвечала мне, потому что ей было очень трудно говорить и одна сказанная фраза необычайно утомляла ее – как меня не утомили бы много часов изнурительной физической работы. Только глаза ее приобрели необыкновенную выразительность, и мне было страшно и стыдно в них смотреть, так как я видел, что она понимала, что умрет, и знала, что я это понимал; и это выражалось в ее глазах с такой ясностью, которая не позволяла мне прямо взглянуть на нее. В течение целого дня она не произносила ни слова; иногда мне удавалось заставить ее улыбнуться, но улыбка производила еще более тягостное впечатление, чем всепонимающие глаза; сестра, казалось, уже находилась в том состоянии, когда человеку незачем улыбаться, и если он это делает, то только по памяти, так как к тому, что предшествует памяти, он уже нечувствителен и неспособен. Только однажды, глядя на то, как я с засученными до плеч рукавами мыл стакан в умывальнике, она подозвала меня глазами и сказала мне что-то чуть слышно. Я не разобрал ее слов; и, как ни жестоко с моей стороны было просить ее повторить сказанное – потому что капли пота уже выступили на ее лбу от сделанного усилия, – я все же проговорил:
– Извини, Оля, я не расслышал. Слезы сразу же появились на ее глазах.
– Я говорю, – прошептала она, – какие у тебя толстые руки.
И влажные ее ресницы опустились. Тогда я мельком, чтобы она не заметила, посмотрел на ее обнаженные руки, лежавшие поверх одеяла и нечеловечески исхудавшие; она сравнила их с моими, и от такого сравнения ее мысль, временно отвлекшаяся от смерти, сразу с непривычной силой и быстротой вернулась к ней – и потому она заплакала.
– Через неделю ты переедешь в санаторию, – сказал я, – и ты увидишь, что тебе сразу станет легче.
Она несколько раз открыла и закрыла глаза, подтверждая мои слова – может быть, из бессознательной жалости к себе, может быть, не желая не соглашаться со мной и заставлять меня опять говорить ей мучительные и лживые утешения. Потом она снова взглянула на меня своими страшными глазами, но я твердо сказал: – Да, да, ты в этом очень скоро убедишься. – И стал говорить о другом.
Врач, приходивший к ней, осмотрел ее и сказал, выйдя за дверь:
– Вопрос нескольких дней, monsieur, вопрос нескольких дней.
И когда он спускался по лестнице, мне казалось, что он идет с некоторой гордостью, потому что тоже принимает на себя часть ответственности за скорую смерть моей сестры.
Затем муж ее, Володя, вернулся из-за границы, и я стал бывать реже, раз в два или три дня, и не оставался подолгу, так как всем было неловко и тяжело и всякое присутствие лишнего человека было неприятно.
Потом, однажды утром, я получил письмо от Володи, в котором он просил меня помочь ему перевезти сестру в санаторию. Я пришел вечером, но на стук мне не ответили; и тогда я просто открыл дверь и вошел в комнату. Шурина не было дома. Сестра, которой дали, по-видимому, сильное усыпляющее средство, спала и ничего не слышала.
Она лежала на кровати в обычной своей позе, вытянув руки вдоль тела; нижняя челюсть ее беспомощно отвисала, как у мертвой; она была уже неспособна к тому мускульному напряжению, которое удерживает челюсть на месте. Она тяжело дышала; но грудь ее не поднималась, и только пустая чашка, оставшаяся на одеяле, опускалась и двигалась; она находилась на той части одеяла, которая покрывала живот, – и ложка, съезжавшая на сторону, тихонько дребезжала. Яркая лампочка освещала комнату. Я снял с одеяла чашку и поставил ее на стол и еще раз взглянул на сестру. Уже не впервые, когда я смотрел на спящих людей, я испытывал испуг и сожаление; то загадочное состояние, в котором человек живет, как ослепший и потерявший память, и во время мучительного сна силится проснуться, не может и стонет оттого, что ему тяжело, – это состояние на секунду возбуждало во мне страх, и иногда я боялся засыпать, так как не был уверен, что проснусь. Но вид заснувшей сестры, уже почти мертвой, был особенно ужасен. Я посмотрел на ее вытянувшееся лицо и черные волосы, неподвижно лежавшие на подушке, – и почему-то вспомнил, как давным-давно, лет десять тому назад, я ходил гулять с моей сестрой, которая тогда только что вышла замуж, как мы ели в кондитерской пирожные и она испуганно останавливала меня:
– Не ешь так много, пожалуйста, это просто страшно. Ты знаешь, что достаточно еще несколько пирожных – и у тебя сделается заворот кишок, и ты публично умрешь и окончательно меня скомпрометируешь.
Затем мы шли с ней в парк, и когда она уставала, я пытался нести ее на руках, но долго не мог и предлагал:
– Ты садись мне на плечи, а то на руках очень трудно. Я пробыл в ее комнате два часа; за это время она не пошевельнулась, я не хотел ее будить; а шурина все не было. Через день утром я должен был прийти помочь Володе уложить вещи, отнести сестру в автомобиль и ехать с ней в санаторию.
Я явился в десять часов утра; было холодно и туманно. За день до этого я купил себе новые туфли; но у меня было всего восемьдесят два франка, а туфли должны были стоить полтораста. И я поэтому купил себе пару туфель из fin de eerie[257] и заплатил за них семьдесят девять франков. Они были не очень красивы и, кроме того, малы мне; но других я купить не мог и был принужден носить эти. Это было очень мучительно. Пока я шел, можно было терпеть; но достаточно мне было присесть на несколько минут, чтобы потом, вставая, почувствовать такую боль, от которой мой лоб покрывался потом. Зато мне не было холодно на улице; я так мерз до покупки этих туфель, потому что у меня было только легкое пальто, – теперь же мне было больно, но не холодно. Иногда я останавливался на улице и стоял на одной ноге, давая другой отдохнуть; потом, через несколько шагов, становился на другую ногу – и затем продолжал путь.
Я поднялся по лестнице, мечтая о том, как я, наконец, сяду и перестану испытывать постоянную боль. Горничная с важным лицом спросила меня:
– Вы в какой номер, monsieur?
– В двенадцатый.
– Madame ждет вас.
Опять на мой стук никто не ответил; и я заметил, что дверь была только прикрыта. Из щели шел сильный запах quelques fleurs[258]. Я вошел. Зеркало большого шкафа было затянуто зеленым клетчатым пледом сестры; на столе в узкой синей вазе стояли какие-то белые цветы. Так как кровать была несколько в стороне, то я не сразу увидел ее. – Почему завешено зеркало? – подумал я. И раньше, чем успел себе ответить, почувствовал, что моя сестра умерла. Тогда я взглянул на кровать. Она была покрыта белой прозрачной материей, подымавшейся горбом в том месте, где стояла свеча, вложенная в руки сестры. На сестре были парчовые туфли, белые чулки и белое платье, сшитое таким образом, что большая складка шла по диагонали от левого плеча к талии и кончалась там, где была пряжка пояса, перламутровая пряжка, на которой проползала змейка, изображенная таким неестественным образом, как обычно, – то есть представляющая из себя три черных, почти одинаковых зигзага, кончающихся раскрытой пастью с высунутым жалом. Запах духов был так силен, что в комнате становилось трудно дышать. Я вышел в коридор и столкнулся с дряхлым стариком в черном пальто; он стоял, держась за перила, и так тяжело дышал, что я боялся, как бы с ним не случился разрыв сердца. Серые его глаза с яростным бессилием смотрели на меня; он хотел что-то сказать, но у него не хватало сил. Наконец он проговорил, задыхаясь и останавливаясь: