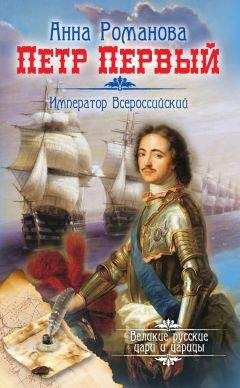Вадим Кожевников - Заре навстречу
Рыжиков соскочил с дровней, спотыкаясь, подбежал к саням, где сидел Тима с папой и мамой, вытер смятой варежкой пот со лба.
— Вот что, Варвара, — еще задыхаясь от быстрого бега, заговорил он. Савич отказался возглавить статистическую группу уездною совнархоза. Обиделся, видишь ли, что пост мал. Не по самолюбию. Так что слезай, ты остаешься.
Лицо папы побледнело, некрасиво вытянулось, и он произнес растерянно:
— Постой, как же это так?
— Ничего, мы еще с ним поговорим в укоме, — утешил папу Рыжиков.
— Но, Варвара, собственно… — бестолково забормотал папа. Собственно, она… Она же должна там руководить тарифно-калькуляционной комиссией. Это, знаешь, такое дело…
— Знаю, — нетерпеливо сказал Рыжиков. Потом стал упрашивать: — Ну, Петр! Мы же не насовсем ее забираем; закончит работу — доставим по сухому на колесах. — Топнул по ледяной корке: — Видишь, тает? Намучаешься только по таежной дороге в ростепель. А у пей еще голова как следует не зажила.
— Ну что ж, — сказал папа грустно. — Аргумент существенный.
Мама скороговоркой начала объяснять, что где лежит в их узлах, вытащила свою корзинку, наклонилась, поцеловала папу в усы, потом Тиму в обе щеки и, приказав ни в коем случае не ходить в сырых валенках, а если промокнут, то запасные шерстяные носки засунуты у папы в карман полушубка, села рядом с Рыжиковым в дровни, повернулась, сняла варежку и долго махала рукой.
За городом началась широкая пустынная еланъ. Занесенные снегом пнп торчали, словно кочки в белом болоте.
Дула весенняя сырая пурга. Небо погасло, в тусклом воздухе летали влажные ошметки снега. Мерно шлепали копыта коней по бугристой дороге, и колея за ними текла, словно два печальных тихих ручья.
Папа вздохнул, поежился сиротливо:
— Вот, Тимофей, опять остались мы с тобой одни.
Тима шмурыгпул носом и сказал сердито:
— Ты сам ыаму отпустил, ты! — и неожиданно для самого себя заплакал, уткнулся лицом папе в колени и, вдыхая кислый запах карболки, признался с глубоким раскаянием: — А я еще Нинку Савич в глаз поцеловал, а это из-за ее отца маму забрал Рыжиков. Небось Георгий Семенович Рыжикова не боится, а ты испугачся и отпустил маму.
Папа отстранился от Тимы, поднял его лицо за подбородок, повернул к себе.
— Запомни навсегда, — сказал он, сурово глядя Тиме в глаза. — Партии не боятся, в ней не служат. Ей отдают свою жизнь, не щадя себя, для того чтобы жизнь всех людей стала хорошей.
— Но Рыжиков вовсе не партия, — попробовал защититься Тима. — Партия это же много людей.
— Много людей… Нет, много людей — ото еще не партия. Вот когда много людей, одинаково убежденных, действуют как одно целое и в большом и в малом, тогда это партия, — и добавил уже не так сердито: — Вот мама и поступила как полагается коммунистке, хотя ей очень хотелось ехать с нами, — и, погладив Тиму по плечу, пообещал: — Потому, что все большевики действуют, как один, у пас очень сильная партия, и ты увидишь потом настоящий социализм, — и сухо произнес: — А то, что сделал Савич, бесчестно по отношению к партии.
— А зачем вы его туда брали?
— Ну, это не твоего ума дело, — и пообещал угрюмо: — Партия такого не прощает.
Лицо у папы снова стало суровым, но теперь не из-за Тимы, а из-за Савича. Тима, уважительно глядя на папу, спросил озабоченно:
— А револьвер ты не забыл?
Папа осторожно похлопал себя по карманам и сказал:
— Нет, здесь. А что?
— Просто так, — сказал Тима. — В волков пострелять или еще в кого-нибудь.
И Тима стал глядеть вперед, туда, где темным зазубренным хребтом вставала за еланью тайга.
Скоро они въехали в тайгу, и к вечерним сумеркам прибавилась угрюмая тень деревьев. Обоз шел лесной дорогой, словно по дну глубокого ущелья, и вершины черных бесхвойных лиственниц глухо скрежетали, будто кованными из железа ветвями.
Мрак становился все более мохнатым, густым, и Тнмо казалось, что это не деревья шумят, а угрюмо сопит темнота. Он то засыпал, то просыпался, положив голову папе на колени, и видел белую луну, которая то висела над его лицом, то вползала в толстые тучи, словно для того, чтобы погреться в них.
Потом он обнаружил себя лежащим на полатях, и рядом с ним спал папа, скорчившись, прижав к губам руку, сжатую в кулак. Было еще совсем темно, когда запрягли коней и снова поехали таежной дорогой.
Рядом с санями по снегу бежал на лыжах лесник и весело кричал Карталову:
— У Кривой пади гляди в оба: топко! Там ключи горячие и зимой болотит, а сейчас еще шибче развезло.
Если гатить будете, так молодняк не трогайте, — пригрозил: — У меня декрет из волости: кто народный лес губить станет — хватать и, значит, к Советской власти представлять. Вертаться обратно будешь, проверю.
Карталов сердито бормотал:
— Наплодили проверятелей, каждый сучок теперь себя властью почитает. И свирепо закричал на коней, чтобы обогнать невзлюбпвшегося ему молодого, недавно назначенного лесника.
Снова тянулась таежная многоверстная чаща бора.
Когда обоз ехал горными невысокими кряжами с обнаженными от весеннего солнца и ветра обрывами, Пыжов порой соскакивал с саней и с молотком и берестяной кошелкой бежал к каменной осыпи, торопливо рылся в ней, хватал камни с такой жадностью, как будто это были грибы. Усаживаясь в сани, он раскладывал камни и начинал разбивать их молотком, словно надеялся найти внутри что-то очень нужное и дорогое.
Асмолов перешел в розвальни к папе и сказал, как бы извиняясь:
— Тоскливо, знаете, в одиночестве ехать.
Тима спросил удивленно:
— Так с вами же возчик и Коля Светличный?
Асмолов, не отвечая Тиме, объяснил папе:
— Приятно все-таки: есть возможность поговорить с интеллигентным человеком.
Папа вопросительно поднял брови, но ничего не ответил.
Поудобнее усаживаясь в санях и даже несколько потеснив папу, Асмолов произнес благодушно:
— Если позволите, Петр Григорьевич, один откровенный вопрос в расчете на столь же откровенный ответ: вы мне верите?
— Безусловно!
— Но почему?
— Потому что вы талантливый человек, а истинные таланты не могут не быть с революцией.
— Допустим, — полусогласился Асмолов и, сморщив красивое, холеное лицо, сказал: — Еще один, возможно обидный, вопрос. А если бы я оказался вашим политическим врагом?
Папа внимательно, словно незнакомого пациента, оглядел Асмолова и сказал, прищурившись:
— В таком случае инженерное творчество будет столь же враждебно вам, как и вы революции, а это серьезные противники, и они вас не пощадят.
— Благодарю за откровенность, — поклонился Асмолов.
Папа повторил горячо:
— Ведь вы действительно талантливый человек!
— А вы беспощадный!
— Не я, логика, — сказал папа.
Асмолов помолчал, потом заговорил раздраженно:
— Во время русско-японской войны не хватило угля для нашего флота. Во Владивостокском порту запросили Петербург и получили предписание: "Пополнить все недостающее количество кардифским углем". Чудовищно покупать уголь у англичан, когда Сибирь столь им богата.
И в эту войну Россия закупала уголь у англичан. Возили через океан, а? А мы тут имеем бассейн в миллиарды тонн, богатейший в мире, — и, сердито глядя на папу, заявил: — Только побуждаемый любовью к отечеству, я пренебрег некоторыми своими убеждениями и поверил вам, большевикам, что вы подобного не допустите. Вот, собственно, и все мое политическое кредо, закончил он со вздохом.
Тиме надоело слушать этот совершенно неинтересный разговор, и он перебрался в сани к Пыжову.
Пыжов приказал сердито:
— Сиди смирно, а то образцы уронишь. — И жадно придвинул к себе груду грязных камней.
Сидя спиной к лошади, Тима смотрел, как медленно отползает назад таежная чаща, и тоскливо думал, что никому до него нет дела и папа, выходит, не очень уж сильно любит маму, раз с таким увлечением разговаривает с Асмоловым, вместо того чтобы разговаривать с Тимой о маме, которая осталась теперь совершенно одна.
Печальные версты пути все больше и больше отдаляли Тиму от мамы.
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ
На третий день обоз остановился на прииске, расположенном на дне глубокой болотистой пади.
Железное сооружение драги плавало посреди болота, и канаты с ее бортов были прикручены к стволам деревьев.
Вопреки тому, что обычно в это время года большие промыслы не работали и только старатели, разведя огромные костры, нетерпеливо отогревали каменисто застывшую землю, прииск оказался действующим.
Долговязый сутулый человек с черными точками вокруг глаз и у крыльев носа отрекомендовался:
— Говоруха, — и извиняющимся тоном объяснил: — Не золотишник, по углю забойщик, — разведя руками, пожаловался: — Разбеглись хозяева, оставили всё без призору. Ну, меня ребята и послали сюда комиссаром. Собрал маленько людишек, вот и колупаемся.