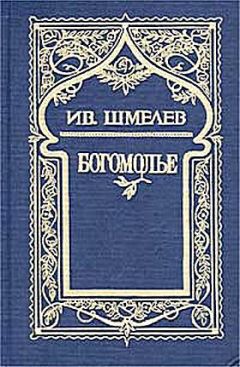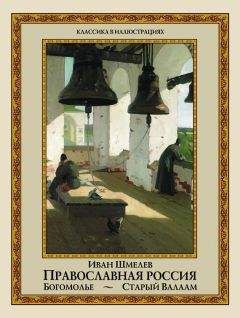Иван Шмелев - Том 4. Богомолье
Двигаются к обеду, в залу. Подают суп из хвостов «заячий пирог». Нахваливают, такого никогда не ели. – Кинг говорит: «эта такая… как ват, мягкий гразь», и просит еще кусок. Косой смотрит со мной за дверью, всё крякает. Пахнет от него водкой, глаза остановились, страшные. Всё уходит в столовую, закусить. Несут сомовину с красным соусом, потом индейку под синдереем… У Энтальцева нет стакана, но ему подносят из своего соседи. Просят – «ну-ка, поговори!» Энтальцев встает со стаканчиком и начинает – по-английски: «гау-лау… микки-вики… дую-вздую…» – как самый настоящий англичанин. Косой шепчет: «гляди ты, как отличается». Все смеются, Кинг говорит – «ти… ма-шейкин!» Несут «пудинг с пламем», самое главное, – на серебряных блюдах башенки, румяные, в пупырях, из середки и по бокам мотаются синие языки огня. Кинг кричит радостно – «браво, наш поддинг, ура!» Косой вдруг вскрикивает, вбегает в залу и начинает плясать, как пьяный. Пролился огонь из блюда, официант споткнулся! Ничего, потушил Косой, вернулся ко мне, говорит: «всё во мне горит, пойду попью». В зале кричат, что пожар надо заливать. Шампанского! Хлопают пробки. Тянутся к Кингу чокнуться. Проходят в гостиную, на кофе. Кинг разваливается в креслах, закуривает «царскую» сигару. Всех обносят сигарами. Берут «на память» и некурящие. Энтальцев сует в карманы. Стелется облаками дым. Разносят кофе с какими-то «кеки-пряниками», на ананасе. Кинг в восторге, кричит – «сами ма…шейкин!» – значит, очень уж хорошо. Мы с Косым пробуем за дверью: совсем не пряники, а кулич с вареньем м миндалем. Проходит крестный, замечает меня, поднимает и говорит: «идем, пропой англичанину песенку, мастер ты». Приносит и ставит перед Кингом. Кинг щелкает на меня зубами, вынимает из кошелька серебряный пятачок и говорит – «на костинцы, на чай… купи сахарни-сладки… спей песеньку-маленьку… бай-бай». Мне стыдно, но все просят, и отец велит спеть. Я начинаю – «ах, попалась птичка, стой», смотрю в пуговку на животе у Кинга и вижу, как он… уже не вижу пуговки, а большая рука его трет жилет, и как будто что-то икает там. Я припеваю – «отпустите полетать, развяжите сети…» – и вдруг жилет поднимается, и серый коленки идут куда-то… Говорят – «чего-то с ним, смотрите какой!..» Кинг стоит у двери, сгибается и крякает, трет живот. Просит – «ведите меня… пожалста… очень скоро… непотерплю». Отец манит его, бежит, распахивает дверь в сени. Кинг идет, прихватив живот. В гостиной гогот, все давятся говорят: «это вот угостили, по-английски!» В сенях страшный шум, будто бьют в пол ногами. Кричат: «не пускает, дверь на крюке!» Кинга уводят кверху, в другое место. Отец отчитывает Косого: «чего заперся, мошенник?» – «Ну, мочи нет!» – говорит Косой, бледный, на себя непохож. Бежит Энтальцев, качается – «ножками режет!» – кричит в сенях. – «Уж не отравились ли, Боже упаси?» – говорят кругом, – «с огнем то ели!» – «Нет, это не от огня, а… пик-пик-то этот… он столько съел! и барин наш напробовался… с пика это».
Косого официанты уводят в мастерскую: совсем, говорят, свернуло. Уж не холера ли на Хитровом, говорят, трое вчера скончалось. Ведут Кинга, зеленого, кладут на диван в столовой. Попить просит. Говорят – не давайте сырой воды, дать ему водки с солью. Ведут Энтальцева, укладывают на подушки, на пол. Дают капель д-ра Иноземцева. Оба кряхтят и стонут. Послали за доктором Клином, Эраст Эрастычем. Отец растерян: еще трое недомогают. Клин – в городской больнице, рядом. Приезжает, осматривает, велит рвотного дать и молока побольше, компресс… Возможно, что и отравились, говорит.
Гости понемногу отъезжают. Клин велит позвать повара Гараньку, но Гаранька без задних ног. Трут ему уши плотники, приводят в чувство. Он мычит и мычит: «перело-жил… дикого меду… три палки…» Это вот в тот, в «пик-пик». Из кухни приходит Марьюшка и кричит: «чего там, он, разбойник… касторка стояла в уголку, верховые сапоги барину смазывать, в соус ее и опростал, с озорства, поворята сказали!» Клин говорит – «ну, это ничего, только полезно… да с перцем еще, вот и оказало скорое действие». Велит показать соус. Испуганный Фирсанов докладывает: «что было – всё Василь-Василич вылизал, очень понравилось».
Уж и было смеху! Так все и говорили после, в поговорку: «смотри, много не ешь, „Кинги“ не приключилось бы». На утро спрашивают Гараньку, а он не помнит. «Да что я, враг, что ль, себе! Это старуха меня со злости напакостила, влила!» Спрашивают поварят, а они напугались, божатся – ничего не видали, а старуха захаживала, как Герасим Семеныч отлучался. Спрашивают Марьюшку, а она – хоть иконы сымать, всеми святыми божится: «да что я, нехристь какая, что ли? людей травить!»
Так ничего и не дознались.
Декабрь, 1934 г.
Париж.
Лампадочка
Говорят – скоро ледоход, где-то была «подвижка». Я спрашиваю Горкина, что такое «подвижка», а он смеется: «то всё знаешь, совсем грамотей стал, а тут не знаешь». Мне стыдно, что я грамотей, а про «подвижку» не знаю. «Да ты сам сказывал, – говорю, – всего дознать нельзя… каждому человеку… что-то, ты говорил, положен… чего положен?..» – «Ишь, хитрый какой! верно, каждому предел положен». Он доволен, что и я говорю, как он, что каждому человеку от Бога предел положен, и объясняет про «подвижку»: «как водополью быть, стронется чуть ледок где-там – и станет; а это нижний лед не пускает, ра-но… а как прибудет еще воды, он и пойдет, пой-дет… – полный уж ледоход тогда».
Все только и говорят про водополье: какая-то вода будет? как бы наши плоты не раскидало, барки с причалов не сорвало. У Горкина в мастерской, в каморочке, «водяная» лампадка теплится, Петру и Павлу: вчера зажег, и она будет теплиться, пока ледоход не кончится. Как-то рассказывал:
– Папашенька вот все шутит – «у тебя, Горка, старый хрыч, на всякое дело по лампадке!» А чего плохого… святой огонек теплит, – и душе весело, и от дурного отнесет, а то и человека пожалеешь. Как пожалеешь-то? А вот подрастешь, я тебе расскажу. Вот синенькая у меня горит… как март-месяц на Алексея Божия Человека и затеплю… и так, вспомнится когда, тоже зажигаю, человека пожалеть. Это нарошная у меня, по зароку. Образ видишь, «Усекновение Главы», Крестителю главу усекли, от Ирода-Душегуба… это чтобы за грешную душу помолиться. Да это… мал ты еще, не понять тебе. И дело это страшное. Нет, и не приставай, рассказывать не стану. Я те про «водяную» лучше, про Петра и Павла… Да сказано тебе – дорости! А про Петра и Павла, потому «водяная»… апостол Петр тонул на водах, а Христос его за ручку по водам и повел, невредимо. А апостол Павел сам весь корабь уберег от погибели, Господня благодать на нем… «Деяния» еще с тобой вычитывали, как ехидну в хворосте зацепил? Вот-вот, тоже невредимо. Это как его сотник в город Рим судить вез. Потому у меня «водяная» и горит, по нашему делу, по речному. Ну, верно говоришь, и Никола Угодник по этому делу помощник, и ему-батюшке теплится у меня, как Михаил-Архангелу своему зажигаю… он сбочку висит, и ему озарение достает, всегда на памяти у меня.
Весна, говорят, ранняя: середина марта, а уж «подвижка». Василь-Василич под Звенигород покатил, распорядиться: там наши дрова ждут сплава. Горкин здесь помогает, объезжает портомойни и перевозы, осматривает лодки, доглядывает, обколот ли лед у портомоен, а то ледоход захватит – плоты сорвет. Он побывал и у Краснохолмского моста, и у Москворецкого, и под «Воробьевкой». К Крымскому мосту обещается и меня взять. Там у нас Денис, парень надежный, солдат, да Господь его знает, что с ним творится, – «совсем без головы стал!» В прошлом годе чуть у него портомойню не унесло в ледоход: запьянствовал, и всё по Москве-реке с наметкой, всё рыбку ловит, дурак-дураком: «душа не на месте у него». Я понимаю что-то, ухом одним слыхал: горничная Маша над ним смеется, и за конторщика замуж всё собирается, – ну, он и зашибает. Горкин мне говорил, но у него что-то не поймешь. Маша про Дениса говорит всё – «пьяница он, на чего он мне сдался!». А Денис говорит – «это я с горя зашибаю, что за меня нейдет». И за конторщика не идет, – ничего не понять. Горкин говорит – дело не наше. Денис, должно быть, во святые подвижники скоро выйдет, – живет, как подвижники во святой пустыне: в хибарке-сторожке, кругом огороды, ни души, только Москва-река. Отполощут бабы белье за день, – и нет никого, до света. У Дениса удочки в сторожке, наметка-сетка, гармонья и собачка «Мушка», – от какой-то знаменитой «Мухи». Про эту «Муху» тоже, должно быть, интересно, и Горкин всё обещается рассказать, только говорит, – «вот, подрастешь, а то не поймешь… да еще напугаешься». А я уж совсем подрос, всю хрестоматию прочитал.
К Крымскому мосту нас везет в лубочных саночках «Смола», старая рабочая лошадка, а не выездная, как «Кривая» наша. Хотели ее недавно к коновалу вести, под нож, но мы с Горкиным отпросили папашеньку погодить: Господь даст, может, и сама протянет ноги, без коновала. Денис на реке, сидит у пролуби на коленках, ершей на «кобылку» ловит, – от моста еще приметили. Горкин сказал сердито: «нашел время! а плоты кто-то за него обколет… намылю ему голову сейчас». Съезжаем к его сторонке, и Горкин начинает бранить Дениса: «разбойник эдакой, голова садовая… держи таких работничков! да тебя, такого, не плоты стеречь… самого-то с плотами унесет». – «Наплевать, пускай унесет! – говорит Денис и трясет серебряной сережкой, – сережка у него в ухе, солдатам так полагается, – пьяница я, туда и дорога, конторщика за меня возьмете!» Совсем несуразный человек. А золотые руки, когда возьмется, так и горит работа. При нас взялся, – половину плотов ото льда обколол, – живой огонь. Горкин сказал мне: «наша Маша дуреха, такого мужа поискать надо… ломается чего-то, человека губит… а что я, не вижу… сама скучает…» Я стал спрашивать, почему скучает, а он мне – «не встревайся, всё равно не поймешь».