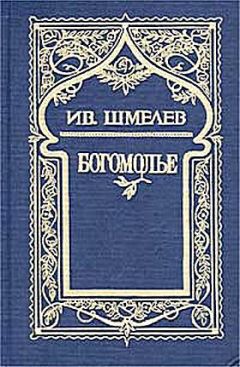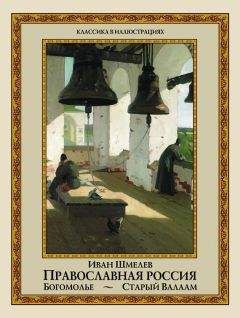Иван Шмелев - Том 4. Богомолье
Отъезжаем с выполосканным бельем. Я смотрю на сверкающую Москва-реку, на мост. Вижутот мост, приятный, который пахнет смолой, леском, – живой мост… и живого Мартына вижу, которого никогда не знал. И зубастого Кингу вижу, и дедушку. Спрашиваю у Горкина:
– А тот мост лучше… деревянный лучше, правда?
– По-нашему, деревянный лучше. Хороший, сосновый был, приятный. Как же можно, дерево – оно живое дело. Леском от него давало, смолой… солнышком как разогреет… а от железа какой же дух! А по тебе какой лучше, железный ай деревянный, наш?
– Наш, деревянный, лучше… приятный.
Ноябрь, 1934 г.
Париж.
Небывалый обед
У нас в доме большая суматоха: небывалый обед готовят, для англичанина, – за Гаранькой из Митрева трактира побежали. Я спрашиваю у Горкина: «это почему, небывалый? он важный, англичанин? на царя похож, а?» А он сердится, говорит: «еще чего скажи – на царя… набрал денег с дураков, а ему уважение!» – «С каких дураков, почему?» – «А, ну, тебя… папашенька еще услышит».
Сам Василь-Василич побежал за Гаранькой, только вряд ли захватит свежего: воскресенье; – Гаранька, пожалуй, без задних ног. В кабинете – отец с Фирсановым. Как парадный у нас обед, – всегда Фирсанов. Войну праздновали, когда Скобелев Плевну взял, – тоже Фирсанов был. Он сидит на диване; во рту сигара, – прыгает под губой, – и я смотрю на нее, как бы не загорелись бакенбарды. Стелется синий дым; отец не любит, и жавороночку вредно, но Фирсанов смолоду отравился, не может без сигары. Я сижу рядом с ним и даже через сигару слышу, как пахнет поварами, – такой дух от него, кондитерский. Английский обед Фирсанов готовить не берется, может только сервировать; взял бы, пожалуй, Лабунова, от графа Шереметьева, да тот, на грех, к Преподобному отпросился. Отец спрашивает, справится ли Гаранька.
– Справиться-то он справится, а сами знаете, какой человек… каверзник самондравный, зато из дворца прогнали. А всякий соус составит, такой ему дар от Бога. У князя Долгорукова жил – и то – нагрубил, ге-не-рал-губернатору! Его князь в двадцать четыре часа из Москвы выкинуть грозился, да… очень, подлец, расстегаи хорошо умеет, нет-нет и посылает за Гаранькой, два жандарма его берут. И чтобы обязательно ему рябиновой две бутылки, а то никакой силой не заставить… хоть в Сибири, говорит, сгноите, вон какой. Как уж он год у Судака-паши продержался… на Зацепе у нас Судак-паша в плену жил. Халат какой подарил Гараньке.
– Он, с… с…, говорят, кошек ему зажаривал.
– Кошек не кошек, а галку за рябчика продавал. Такой ему дар от Бога.
Отец говорит, что купечество уважило англичанина, на прощанье, и ему в грязь лицом ударить не годится, надо для русской чести: поедет к себе, будет рассказывать про Москву.
– И меня учил верхом ездить, и плавать учил, еще мальчишкой я был. Известный человек, надо. Губонин в Московском его кормил, Куманин на французский манер, всякие салаты были, а я хочу удивить, в сюрприз, настояще-английским угостить.
Просовывается в дверь вихрастая голова Василь-Василича, глаз весело стреляет, распухшее лицо красно, – Косой уж успел заправиться.
– Привел-с, – шопотом говорит Косой, славно какую тайну, – свежего захватил-с… – и радостно встряхивает хохлом.
– Ты чего радуешься? – говорит отец, – запраздновал? Давай Гараньку.
Выходит рыжий взъерошенный Гаранька. На нем сальный пиджак без пуговиц, гороховые панталоны, легкие, калоши на босу ногу; в волосатом кулаке картуз с согнутым козырьком, похожим на копытце. Глаза зеленые, дерзкие; худой, высокий, – живой разбойник, Горкин его всё так.
– Ну, вот я… – говорит он железным голосом и сует кулаки под мышки.
– Э, Гараня… – трясет бакенбардами Фирсанов, – порядка не знаешь, не здороваешься? В дом тебя позвали, а ты с Хитрова рынка чисто.
– Ну, здрасте… – нехотя говорит Гаранька. – А не нужен, дак я… – и он поворачивается боком.
– Ненужен – не звали бы, – говорит отец. – Английский обед можешь?
– Чего-ж не мочь! – через губу говорит Гаранька. – У Судака-паши не то готовил. Вам как… парадный или простой?
– Парадный. Англичанина провожаем, известный человек.
– У-у… самый английский? – мычит Гаранька и начинает мотать ногой, будто хочет швырнуть калошу.
– Нет, сперва проспись, после поговорим! – говорит отец, хмурясь.
– Это как же?.. – встряхивается Гаранька, дерзко. – Не желаете, могу и уйтить!.. – и опять повертывается боком.
– Вот за что тебя из дворца прогнали… – грозится ему Фирсанов, – за твои каверзы! А ломаешься – Лабунова возьмем.
– Зовите Лабунова. Беспокоите только… Ла-бу-но-ва!.. – и он уходит.
– Вот, с… с…! – говорит отец, и сбрасывает костяшки-счеты.
– Дозвольте доложиться-с… – просовывается Василь-Василич. – Не ушел-с, сейчас обойдется… маленько не при себе, не свеж-с.
– Настоящее-английский вам? – слышится за Косым, – когда изволите?
– Одумался? Завтра надо.
– Можно. Любят погорячей. Суп из хвостов – первое удовольствие им. Ихней рыбы не найдем – сомовины возьму, под лимончиком с синдереем, уважают синдерей. Розбив, понятно, на хересе с синдереем, захреновым. Индейка, опять под синдереем… можно и баранье филе, под чесночок, соус мадерный, с диким медом на битых сливках, желе брусничная. Ну, пудинги, понятно, с пламем… да уж, посолов кормил! Закуски там, водка можжевеловая, портер, понятно…
– Это уж Фирсанов оборудует.
– Дозвольте, скажу-с… – просовывается голова Косого, – горькую шибко уважают, с перехватцем-с!
– Для ихнего сыру… рябчиков тертых, печенков, на коньяке. Зайчий пирог… да без зайца обойдусь: паштет из рябчишной требухи – не отличишь. Хотите – сами по моему леестру, а то я в Охотный могу?.. Сами. Только полная, чтобы воля мне, подручных и медную посуду, очистить кухню… окромя положенного, две бутылки рябиновки. После обеда зачинаю! – и, мотнув головой, уходит.
– Ах, с… с… – говорит отец.
– А во дворце-то как мучились… – говорит Фирсанов, – главный повар чуть от него не удавился. Из-за пирожков только и терпели… выгнали-таки.
– Дозвольте сказать, – опять просовывается Косой, – господин Энтальцев, поздравлятель… приятели с Кингой. – И могу, говорит, для конпании, для разговора, умеет по-ихнему… у Бахрушина в сюртуке сидел, разговоры разговаривал, с Кингой. Просится пообедать, для разговору.
– Вон что. Хорошо бы, правда… – говорит, обдумывая, отец, – у Куманина я гувернантка разговаривала, у Губонина директор от Бромеля. Хоть и может Кинг по-нашему, а надо бы. Да только как бы не напился… и одежи у него нет приличной. Ну, можно, ему сюртук дать.
– Теперь одетый ходит, после тетки тыща рублей ему досталась. И теперь только портвейнец пьет. Ну, рюмочку ему нальете, а стаканчиков не становьте.
– Пусть вечерком зайдет, знаю тебя!
– И никак нет-с, разок только угостил, по случаю тетки.
В кухне шумит Гаранька. Марьюшка даже образа вынесла и гераньку, сидит-пригорюнилась в передней, без причалу, вздыхает-шепчет: «нечитсая сила, окаянный»! Я показываю ей, в утешенье, картинки в поминаньи, как душа по мытарствам ходит. Она вздыхает, тычет пальцем в картинку: «вонон, в аду горит… живой Гаранька! и рыжий, и глаз зеленый, злющий… такой же окаянный». В кухне, говорят, сущий ад. Поварята визжат в чаду, выскакивают на двор, как шпаренные, затылки все потирают: скалкой Гаранька лупит. Гремят кастрюли, плита таки и полыхает, – как бы пожару не натворил. Косой заглядывает в окошко кухни и отходит на-цыпочках, поднявши руки: «ох, чего вытворяет, мудрователь!» Затребовал льду корзину, дров, чтобы без сучка, березовых… такой леестр прописал – половины в Охотном не достали, к Андрееву погнали, на Тверскую. Лимонов, синдерею, дикого меда палок, персу самого едкого, хвостов бычачьих… на рябчиков и смотреть не стал – «с прострелом, не годятся!» На какие-то кеки-пряники ананасов затребовал… Поварята визжат: «мельчей колите, в лучину велит щипать!» – дровами недоволен. В кухню войти – Боже сохрани! Дворник носил дрова… – «глядеть страшнр, говорит… – ножом пыряет, а кругом и огонь, и лед!» Все говорят: «он и так-то въедлив, а как при деле – и не связывайся с ним лучше, ножом запорет». Я и к кухне не подхожу.
Вечером, Горкин со скорняком сидят под сараем на досках, что-то всё шепчутся. Я спрашиваю опять, почему обед небывалый, а Горки только: «папашенька чудит, и наше с тобой дело». Скорняк говорит: «им не обед, а по Геям бы… мы турков победили, а они нам навредили!» Я спрашиваю – «кому по шее?» А Горкин сердится: «нечего тебе встреваться», И вдруг, из кухни бежит Гаранька! и – прямо под колодец. Кричит Косому: «качай, запарился!» Утирается колпаком, вытаскивает бутылку и, из горлышка – буль-буль-буль. Глаза у Гараньки страшные-кровяные, на фартуке – нож огромный, болтается. Садится над доски, страшный. – «Перцем этим глаза проело… Капризные, черти. Каждый человек ест и хвалит, а энти… всё не по их, Навидался во дворцах послов этих! Он не глядит на тебя, а… мычит, с… с… такой-сякой я, первый человек»! Скорняк уважительно говорит Гараньке: