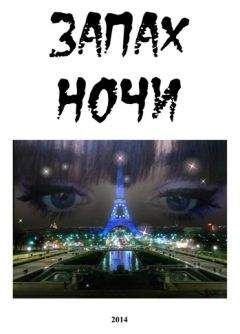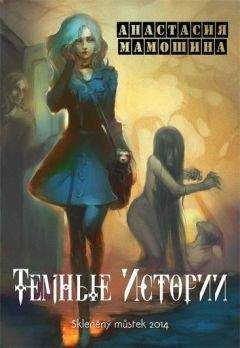Дмитрий Булгаковский - Живая смерть (сборник)
Спустя три дни видится мне митрополит Платон, будто ко мне взошел в кабинет. Я очень смешался, что мне не сказали. Хватаюсь за рясу и камилавку. Он мне говорит:
— Не заботься о пустом. Я пришел о деле с тобой поговорить, что не слушаешься отца и матери?
— В чем?
— Для чего не просишься из Пскова?
— Куда же проситься? Вакансии епископские — неужели о понижении?
— Неправда, есть высшая — Тобольская.
— Ваше Высокопреосвященство, — это Сибирь.
— Но ты не достоин и епископской. Повинуйся, я тебе повелеваю именем Божиим (при сих словах я весь задрожал).
— Повинуюсь, но к кому я пошлю просьбу?
— К Аврааму.
— Что напишу?
— Ничего, только просись.
— Но если не уважат без резона?
— И будет принята, и исполнится.
Потом он снял со стены образ и, подавая, сказал: „Целуй в знак клятвы“. Я поцеловал, и потом он благословил меня и сказал: „Теперь, ежели не послушаешь, будешь под клятвой“, и вышел вон с последними словами. Я проснулся, и поверите ли, почтеннейший архипастырь, я слышал их проснувшись и видел его выходящего из двери. Я вскочил посмотреть далее, но более уже ничего не видал. Вот вам исповедь моя совершенная. Посудите, мог ли я противиться?»
XI
Было около половины апреля, рассказывает Гейнце. Я служил в то время в московском окружном суде и жил неподалеку от Кремля по Моховой улице в номерах Скворцова, известных среди московских студентов под сокращенным прозвищем «Скворцы». Пришедши в четыре часа со службы, я пообедал и, сидя на диване, начал читать какую-то книгу. Расположение моего номера было самое обыкновенное: довольно большая комната была разделена перегородкой на три части: маленькую переднюю, спальню и приемную. Диван стоял так, что я мог, сидя на нем, видеть входную дверь. Был, как я уже сказал, пятый час вечера; на дворе было совершенно светло, день был солнечный. Случайно взгляд мой, оторвавшись от книги, упал на входную дверь, на которой заметил небольшой светлый кружок, похожий на то, когда дети шалят, пуская зеркалом зайчиков по стене; но номер мой был в третьем этаже, в окнах находившегося напротив моего номера здания не было видно никого. Я, встав с дивана, внимательно осмотрел эти окна и снова сел на диван, посмотрел на дверь — светлый кружок делался все больше и больше; я замер, наблюдая это странное явление. Светлый круг обнимал уже дверь, когда из него стала отделяться темная фигура, делаясь все рельефнее и рельефнее. Вот она совершенно отделилась от стены и стала медленно приближаться ко мне: я слышал шорох мягких шагов и сидел не шелохнувшись, как пригвожденный к месту. В этой фигуре я узнал моего покойного отца, умершего в январе 1880. Он был одет в фрачную пару. Кроме каштановых усов с сильною проседью, которые он носил при жизни, он оказался обросшим коротенькою, совершенно седою бородой. Призрак приблизился к преддиванному столу, обошел его и сел со мной рядом на диван. Я не в состоянии был не только крикнуть, но произнести слова: страх, я откровенно сознаюсь в этом, сковал мой язык.
Призрак протянул мне руку, я машинально подал ему свою; рука загробного гостя не обладала холодом трупа; напротив, она производила впечатление руки человека, пришедшего в комнату со двора, — в ней чувствовалась свежесть. Он заговорил; голос казался выходящим из-под полу, он был глухой, но все-таки похожий на голос отца. Я позволю себе опустить подробности этого разговора, касающиеся лично меня; скажу лишь одно, что он сообщил мне такие вещи, о которых не мог знать при жизни, так как многое случилось уже после его кончины.
Я несколько времени не мог придти в себя.
Вечером после описанного мною явления я поехал к моей матери, которая в то время жила в здании Екатерининского института, где она и получила образование, твердо решившись расспросить ее подробно о болезни и похоронах отца.
— Скажите, пожалуйста, в чем вы его положили? — задал я ей вопрос.
— Во фраке…
— Он до последнего времени не носил бороды?
— Нет, но во время болезни у него отросла совершенно седая борода.
— Да ведь у лютеран в обычае брить бороды по смерти тем, кто не носил их при жизни?
— Мне это говорили, но я не согласилась и положила его так, с бородой… Да зачем все это тебе?
Оказывается, что я, не видавши его ни во время болезни, ни после смерти, видел его именно таким, каким его положили в гроб.
XII
У меня была сестра, умершая внезапно в прошедшем году в Дюнкирхене, рассказывает одна поселянка из Герцеле в Голландии. На следующий день после ее смерти умер и ее шестимесячный ребенок. Их похоронили вместе, и я была на похоронах. Месяц спустя, в октябре, когда я вечером ожидала возвращения мужа с работы и подкладывала дрова в камин, послышался стук приподнятой щеколды. Были сумерки, лампа не была еще зажжена. Предполагая, что это муж, я не дала себе труда обернуться и посмотреть на дверь. Не слыша, однако, другого звука, я оглянулась и похолодела от ужаса. Полено выпало у меня из рук, и я думала, что умру на месте. Я увидела мою сестру посреди комнаты с ребенком в руках, увидела ее так ясно, как нельзя лучше. На ней было то самое платье, в котором я видела ее в последний раз перед смертью; она стояла неподвижно, разгоревшееся пламя осветило ее лицо и я заметила, что она необыкновенно утомлена и грустна. Я так дрожала, что не могла стоять на ногах и села, сделав крестное знамение на себе. Сестра не двигалась с места. Зубы у меня стучали, как в лихорадке.
— Сестра, — промолвила я наконец, — не ты ли умерла в Дюнкирхене?
— Точно я, — ответила она слабым голосом.
— Не молитвы ли ты просишь у меня?
— Марианна, все это время я старалась поговорить с тобою. Незадолго до смерти я обманула на двадцать франков родственницу моего мужа: пошли, ради Бога, эти деньги тетке Дезире, и та отдаст их кому нужно.
Я обещала ей это, и взглянув на нее с большим самообладанием, увидела, что одежда сестры как бы погружалась в пол.
— Придешь ли ты опять? — спросила я.
— Не знаю, это очень трудно. Я больше двадцати раз пыталась прийти сюда, но меня всегда удерживало какое-нибудь препятствие. Однажды твой муж, другой раз дети помешали мне, и вот я наконец пробралась к тебе. Не забудь же своего обещания насчет денег.
С этими словами она исчезла, и я снова услышала стук щеколды. Стало совершенно темно, и мне было до того жутко, что холодный пот выступил по всему моему телу. Вскоре пришел мой муж и рассказал, что на дороге кто-то схватил его за плечи и несколько времени крепко держал на месте; было это минуты за две, за три до прихода домой.
XIII
На днях один очень почтенный сановник передал мне следующую странную историю, имевшую место в начале 60 годов, в здании одного из министерств в Петербурге.
— Я был делопроизводителем в нашем департаменте, — рассказывал он, — а директором был мой дядя. Обедал я у него чуть не ежедневно, тем более, что жена его была барынька пречудесная и ко мне, холостому племяннику, относилась весьма сочувственно. Понадобилась однажды вечером дяде справка; не хочет ждать до утра — сейчас ему подай, а справка у меня в столе в департаменте и ключ у меня. Дядя говорит: сейчас велю заложить лошадь, поезжай и привези немедленно. Ну что делать — поехал. Зимний вечер, снег, вьюга. Приезжаю. Конечно, некоторый переполох. Сторож у нас был из перекрещенных жидов, звали его Шмуль Занн. Он засуетился, зажег сальную свечку (ведь это теперь по всем министерствам электрическое освещение, а тогда только по стенам горели лампы и то масляные), и отправились мы с ним во второй этаж в департамент. Лестница огромная, темно, от свечки даже точно темнее еще стало — дает она только маленький круг света, а остальное — мгла самая беспросветная. В окна вьюга так и стучит, все закидало хлопьями, стекла звенят. Ко всему этому я всегда поверхностно относился и потому на нервы мои это не действовало. Идем дальше и дальше. Отпирает Шмуль одну дверь, другую. Вот и департамент наш: огромная карта российской империи во всю стену, портреты государей во весь рост.
Только что мы стали входить в ту комнату, где я, по обыкновению, занимался, показалось мне, что кто-то серый такой выходит в противоположную дверь. Показалось мне, и тотчас же я отогнал эту мысль, решив, что это тень от нашего шевелящегося пламени. Даже не вздрогнул я, а подошел к своему столу и говорю Шмулю: «Свети хорошенько», вынул ключ, отпер ящик и стал рыться.
Но едва я сел и воцарилась тишина, как совершенно явственно послышались в соседней комнате шаги.
— Шмуль, — говорю, — там есть кто-то?
А он отрицательно трясет головой.
— Никого, ваше высокородие, извольте быть спокойны.
Ну что же, думаю, верно, это ветер. Нашел бумаги, задвинул ящик, только хотел встать, слышу, что там не только шаги, а и стулом кто-то двигает.