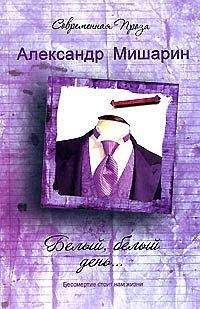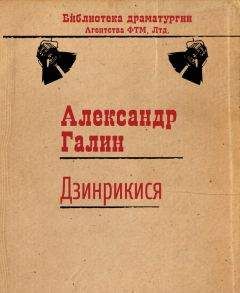Александр Мишарин - Белый, белый день
Пашкина мать увезла Сережку в Москву. Он долго не засыпал, ворочался, а наутро его уже не было.
И случайно Пашка услышал обрывок разговора родителей.
- А что я должна была делать? - спрашивала мать. - Он так и у нас что-нибудь утащит!
- Ну, считай, что нет у тебя больше племянника! - непривычно резко сказал Павел Илларионович. Помолчал и добавил жестко: - Не понимаю я тебя иногда, Анна...
Не попрощавшись ни с кем, отец ушел на работу.
- Ну что я такого сделала?! - вслед ему кричала Пашкина мать. - А если бы он каракулевую шубу унес? Или столовое серебро? Или мамину брошь? Да ей сейчас на черном рынке цена - миллион! А золотые часы! Дарственные! Да мало ли что!.. А мне еще Пашку подымать надо! А на что, спрашивается? На гроши? Что сейчас зарплата? А Ростик? Что я с ним буду делать? А?
Она словно не видела проснувшегося Павлика. Забыла, что никогда не позволяла себе кричать в их многолюдной коммунальной квартире.
- Мам, а что случилось? - спросил Паша. Он уже выбрался из своей детской американской кровати и стоял перед матерью в одной ночной рубашке.
- А ты что? Про школу забыл? Посмотри, сколько времени! - не отвечая на вопрос, раздраженно собирая грязную посуду со стола, отчитала сына Анна Георгиевна. - Марш в ванную! И не забудь помыть лицо с мылом!..
Она побросала посуду на поднос и, чуть не сбив сына, пошла из комнаты на кухню. Семь хозяек-соседок встретили ее притихшие, уткнувшись в свои кастрюли, сковородки, миски, тарелки, керогазы...
Пашка, чистя зубы, намыливая лицо так, что залепило пеной глаза, вдруг вспомнил, что ночью он на мгновение открыл глаза и увидел, как в темноте мать закрывает на ключ их массивную, с рифленым, закрашенным под дерево стеклом дверь. И прячет ключ в карман своего халата. И уже перед тем, как снова уйти в сон, Пашка заметил, как приподнимается на своей раскладушке Сережка.
Как же можно? Сережка же свой! Или... он уже чужой? Пусть только для матери?.. Но не для него, Павлика! Не для отца!
Но это уже не имело для Сережки значения...
Уйдя рано утром без завтрака, как ни уговаривала его Пашкина мать, Сережка снова пропал на несколько месяцев.
Уже потом - опять же не без помощи всемогущего Стессина - дядя Кеша ездил куда-то в Костомукшу, где ему отдали в железнодорожной милиции сына, сопроводив простыми русскими словами: "Какой же ты отец?! Если вырастил такого звереныша?"
Дело замяли. Иногда дядя Кеша заезжал на обед к Анне Георгиевне. Выпив припасенную ею четвертинку, хвастался, какие руки у его непутевого сына. Как он поправил крыльцо! Cам, один, без его помощи! Какие щи готовит к возвращению отца! Сам весь дом убирает - даже полы моет и стирает...
Кто бы спорил? Руки у Сережки всегда были золотые! Да только глаза не в ту сторону смотрели... Жадные, раскосые, монгольские, упрямые Сережкины глаза...
Они и через многие-многие годы помнились старому Кавголову...
П.П. брел наугад по старинному - еще времен первой Отечественной кладбищу. Оно уже давно превратилось в парк имени Чапаева. И ничто буквально ничто! - не напоминало в этом торжественном, с остатками старинных аллей, парке места упокоения тысяч и тысяч, может быть, самых славных сынов России. Ничто не говорило о великой, потрясшей весь мир, победоносной русской кампании, свалившей Наполеона. Кампании, стоившей России столь тяжких потерь, разрушенной и спаленной столицы... А главное - ставшей финалом обособленной, чинной, почти домостроевской, жившей своим разумом и пониманием России. Дальше уже были тройственные союзы, декабристы, западные идеи, социалисты, бомбы, убийства царей, великих князей, министров и...
Пошло-поехало!
Наверно, недаром Лев Николаевич Толстой похоронил своего самого гордого, самого красивого, самого родовитого и блестящего русского воина политика и своего душевного собрата - князя Андрея Болконского именно на этом кладбище. Сразу на выезде из Москвы по главному питерскому тракту... Слева от него в густом сосновом бору, где тогда наспех хоронили умерших, чтобы облегчить огромный воинский обоз, так поспешно ретировавшийся из Москвы по приказу графа Ростопчина...
И именно здесь в последний раз поцеловала в холодный лоб его названная невеста, так и не ставшая женой, - молодая графиня Наталья Ростова.
П.П. остановился - по парку шныряли бесконечные своры дорогих собак. Отчего-то истошно лая... То здесь, то там стояли группками их хозяева, увлеченно переговаривались о чем-то своем. Детей вообще никогда не было видно в этом кладбище-парке. Старики-пенсионеры уже ушли - к вечеру здесь было мрачновато...
Кавголов обратил внимание на большие, нанесенные на деревья красные кресты. Рядом с ним, еще метрах в пяти, еще и еще... Ими помечались приговоренные к спилу очень старые и действительно уже почти не имевшие крон сосны. Люди в зеленых спецовках периодически спиливали их целыми аллеями. Жгли траву. Но ничего нового не сажали - во всяком случае, Павел Павлович ни разу этого не видел. Это они, люди в спецовках, вынесли из парка большие удобные скамейки, которые стояли здесь, казалось, с самой войны. А вместо них натыкали досточки о двух столбиках, на которых и детям не сесть. Видимо, так муниципальные власти боролись с бомжами - чтобы они не могли ночевать в этом темном и все равно каком-то торжественном парке.
Эта торжественность долгое время поддерживалась двумя широко размахнувшимися бюстами-надгробиями знаменитого авиаконструктора и его главного инженера. Само КБ, где они работали, было напротив - через Ленинградский проспект. П.П. еще помнил дорогие цветы по праздникам у обеих скульптур дважды Героев и академиков. В кованых фонарях - под петербургский Летний сад - были всегда ввинчены лампочки. Гранит был вымыт, мрамор сиял. Широкие, низкие скамьи покоем окаймляли бронзовые бюсты...
Но за последние несколько лет растащили почти все мраморные плиты, разбили стекла и выбили лампочки из франтоватых чугунных фонарей. Даже ухитрились обрушить большинство скамей из толстенных, когда-то отливавших лаком, тяжелых брусьев.
Года два назад на этих скамьях к вечеру повадились располагаться торговцы наркотиками. Сначала это были сообщества глухих, но спортивных, жестковатых парней. Они были - непонятно только как? - зазывалами для иномарок, что уже привычно останавливались на пустынном, лесистом перегоне от метро "Сокол" до "Аэропорта". Сами же наркотики ради конспирации находились у их девиц, которые торчали на ступеньках, сходивших от памятника непосредственно к парку...
Однажды П.П. присел отдохнуть на одну из еще уцелевших скамеек. Его быстро оценили взгляды зазывал. Что-то друг другу сказали на своем языке... Но в последнем пренебрежительно-презрительном жесте - впрочем, достаточно миролюбивом - было определение его как полного для них ничтожества...
П.П., старый барин, со старинной тростью, вполне прилично одетый, заслуженный, невольно возмутился. Он - почти академик, человек, занесенный во все мировые справочники, почетный доктор... был для них хуже грязи!.. Последней шестеркой! Или еще хуже...
Павел Павлович резко поднялся. Привычно, повелительным жестом, прищелкнув пальцами, подозвал чуть ошарашенного зазывалу.
- Давай! Что там у тебя?
Очумевший парнишка, явно не москвич, вертлявый, крепенький, одновременно и услужливый и опасный. Что-то пробормотал на своем, с трудом понимаемом, гнусавом языке. Как Кавголов понял - аметодин.
- Пару! - почти приказал Павел Павлович. - Сколько?
- Сорок! - уже с вызовом бросил зазывала. К ним подскочил еще один парнишка - постарше и покрепче.
- Как я понимаю - долларов?
Оба почти издевательски, но тихо захихикали.
- Деньги вперед! - совершенно нормальным голосом поставил условие старший.
Но Кавголов уже закусил удила.
- Вот пятьдесят! - Он вынул из толстого бумажника купюру. - Я стою с ней здесь. А вы - в два креста! - И он махнул увесистой палкой в сторону "дам-хранительниц", давая парням понять, что уже разобрался в их нехитрой технологии.
Ребята переглянулись, но в это время подъехала шикарная иномарка, где сидели четверо южных гостей. Один бросился к ней, а другой, еще раз оценив коротким взглядом Павла Павловича, мигом исчез в кустах. Вернулся он почти сразу же с двумя белыми заклеенными пакетиками.
- Точно аметодин? - строго и одновременно растерянно спросил Кавголов.
Парень коротко полоснул себя ребром ладони по горлу. И тут же достал десятку сдачи.
"Все как в лучших домах Лондона", - попытался про себя сострить Кавголов.
Отдав деньги, он сунул пакетики в карман английского плаща.
"Зачем мне этот аметодин?" - думал, шагая широким, властным шагом в направлении своего дома.
А позади него, на развалинах бронзово-мраморной славы великого авиаконструктора, кипела жизнь. Иномарки все подъезжали и подъезжали. Мелькали фонари - очевидно, для расчетов. Метались темные фигуры. Слышался смех, чуть нервный...