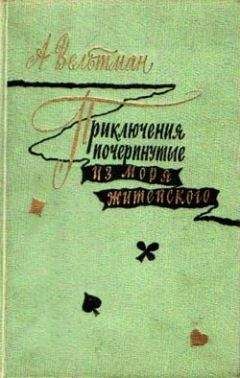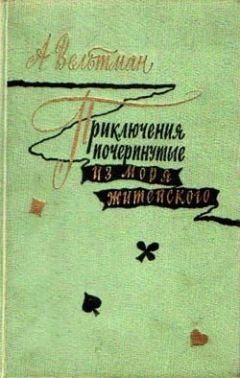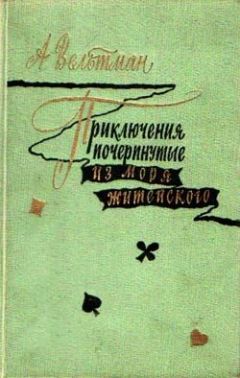Александр Вельтман - Саломея, или Приключения, почерпнутые из моря житейского

Обзор книги Александр Вельтман - Саломея, или Приключения, почерпнутые из моря житейского
Александр Вельтман
Приключения, почерпнутые из моря житейского
Книга первая
Часть первая
У одного папеньки и у одной маменьки было две дочки. Точка. Не об них дело. Читатель, может быть, встречал где-нибудь Дмитрицкого? Довольно статный мужчина, бледное лицо, зеленые глаза, весь в крестах и знаках отличия, служил и там и сям, был во всех войнах и походах, на суше и на море, во всех странах и землях, всех знает, со всеми знаком… Ничего не бывало! все это ложь! Раскроем наудачу какую-нибудь страницу из его жизни. Вот он едет в столицу искать счастья направо-налево – и все сердится.
– И тут тройка не везет! да ну, пошел! погоняй мужика-сипа!
– Мужик-сипа ест сыто, барин! – отвечал извозчик.
– Животное! и тот упрекает меня в недостатках! Пустяки, брат, у нас есть капитал.
И с этими словами Дмитрицкий отправил одну из своих рук в один из своих карманов, пошарил в нем, потом перенес в другой, в третий и, наконец, вытащив из недр бокового кошелек, потряс над ухом.
– Где ж он тут, собака?… а!
Вытряхнув на ладонь ключик, потом единственный червонец, он погладил его, как зверка, по шерсти.
– Ключ от прошедшего и будущего богатства; а это – вот он, настоящий червонный! один-одинехонек. Где ж, брат, твои товарищи?… ушли?… экие какие! Ничего! зато какой простор тебе на дне кошелька. Ты, душа моя, у меня заветный, на разживу; ты не какая-нибудь последняя копейка, которую дурак ставит ребром. Тебя я не выпущу из рук; ты – мой аттестат, мое золото, рычаг, движущая сила: без тебя и этого осла не поворотишь с места. Эй! пошел! да ну же, погоняй!
– Да погоняю же, погоняю.
– Гони во всю ивановскую!
– Куда же еще гнать, барин! Погонишь, да загонишь; не на один поезд с тобой куплены лошаденки; кормильцев-то других у меня нет!
– Гони, говорю! А не то видишь? смотри!
Мужик обернулся; Дмитрицкий показал ему кулак.
– Экая диковинка: у нас у самих таких пара, барин!
– Ступай, говорю, а не то я тебе дам!
– Что дашь, барин? мы сдачи сдадим.
– А вот что! – сказал Дмитрицкий, показывая червонец, – видел?
– Видел. Эх вы, соколики!
И мужик раскачнулся на облучке, приударил легонько по всем по трем; кони прибавили рыси.
– Ну, видел? Червонный, целиком, без сдачи.
– Эх вы, золотые мои! – прикрикнул извозчик, замотав головой и приподняв пристяжных навскачь.
– Скажи пожалуйста! у него золотые кони! Верно, не все то золото, что блестит. Слышишь, червонный! Ну, во все лопатки, напропалую!
– Сперва поторгуй, барин, тройку-то; да на загон-то я еще и не продам.
– Скажи, пожалуйста! Да он лучше нашего брата знает цену золоту! У нас только то золото, что золото, будь оно чужое или свое; а у него все золото, что его. А хороша у тебя жена?
– Вестимо, что хороша.
– Молода?
– Да не стара.
– Золото?
– Золото-баба!
– Ну, а весело жить?
– Покуда весело.
– Золотые деньки выдаются?
– Слава богу!
– Ну, а барин каков?
– Барин – ничего.
– Золотой человек?
– Золотой, золотой, и сказать нечего.
– Ну, а приказчик каков?
– Приказчик? Приказчиком-то он пообмишулился.
– А что?
– Да так, ничего; про нас хороший человек.
– А не золото?
– Уж такое «золото, что боже упаси!
– Вот тебе раз! Поди с ним! У него все золото; а я думал удивить его червонцем! Полезай, брат, со стыда в карман; посмотрим, как-то ты блеснешь в городе.
Дмитрицкий уложил червонец в кошелек, кошелек в карман; а извозчик, затянув обычную песню, поехал обычным шагом; иногда только покачнется на облучке, помотает головой и погладит кнутом пристяжных, чтоб натянули постромки.
Вот и город Москва заблестела на горизонте золотыми маковками; у заставы извозчик приостановился.
– Приехали, барин.
– Куда? – спросил Дмитрицкий, очнувшись от дремоты.
– Да к заставе.
– Неужели?… Ах ты, скверность!.. Ну, ступай, что ж ты стал?
– Пожалуйте подорожную, – сказал часовой.
– Какую подорожную? Ведь подорожную записали; сколько еще раз записывать?
– Когда записали?
– А генерал-то проехал.
– Какой генерал? Никакого генерала не проезжало.
– Вот тебе раз! Не может быть! Что ты это говоришь! Куда ж он девался? Я – его камердинер… отстал… бричка сломалась генеральская; я тороплюсь догнать его… Тут нечего разговаривать!.. Ступай!
– Нет, постой, я доложу дежурному.
– Я сам пойду к дежурному, – сказал Дмитрицкий, – посмотрю в книге; как это можно, чтоб генерал еще не проехал?
И Дмитрицкий, выскочив из повозки, пошел в караульню.
– Да я тебе говорю, что никакого генерала не проезжало! – твердил ефрейтор, следуя за ним.
– Позвольте, ваше благородие, взглянуть в книгу; вот, говорит, что не проезжал мой генерал, а я знаю, что проехал…
– Какой генерал? Как его зовут? – спросил писарь.
– Да вот, извольте посмотреть, вчера или сегодня, – продолжал Дмитрицкий, взяв книгу и просматривая фамилии проезжих. – Бричка сломалась, починили было, опять сломалась, принужден был нанять телегу, да такие лошаденки попались… а генералу что ж без меня делать… мундиры все со мной… я думаю, ждет не дождется… еще прибьет, что я замедлил.
– Да как фамилия твоего генерала? – спросил офицер.
– Ну, вот, вот; вот генерал от кавалерии… а тут говорят, что не проезжал. Я знаю, что проехал; вот, с будущим, а будущий-то я, его камердинер… Сделайте одолжение, ваше благородие, пожалуйте солдатика проводить меня к нему для удостоверения, что я действительно его камердинер.
– Это для чего?
– Меня не пропускают через заставу; а его превосходительство, верно, сказал на заставе, что я еду вслед за ним.
– Говорил генерал? – спросил офицер ефрейтора.
– А бог его знает; ведь не мы были, ваше благородие, в карауле; а при смене никто ничего не говорил.
– Так позвольте солдатика, ваше благородие; я же и не знаю, где генерал остановился.
– Можешь и сам отыскать; здесь караул не для рассылки.
– Нечего делать! прощайте, ваше благородие, – сказал Дмитрицкий, выходя. – Подавай тройку! – крикнул он извозчику.
Заставу подняли, Дмитрицкий сел в телегу и на вопрос извозчика: «Куда прикажете ехать?» – отвечал: «Ступай покуда прямо!»
– Насилу отделался! – продолжал он про себя, – спасибо тузу: при тузе и валет много значит; поставил темную – и повезло.
Начав дело с конца, все-таки не уйдешь от начала; а потому мы должны хоть слегка просмотреть первые страницы жизни Дмитрицкого.
Вследствие уроков своего наставника эмигранта почтенный родитель его имел следующие правила: люди добрые – овцы, которых умные стригут; люди честные – ослы, которые за умных людей возят тяжести; а люди трудолюбивые – лошади, на которых умные люди верхом ездят. Матушка его не имела никаких правил и в подражание своему супругу думала, что женщина с правилами – дура, что любовь не что иное, как спиртуозное чувство, от которого пьянеют только дураки. Дмитрицкий в доме родительском был баловень; в какой-то гимназии или в бурсе – шалун и лентяй; на службе – разбитной малый, сорвиголова. Служил он или, лучше сказать, служил-не-служил в уланском полку корнетом. У него была совсем не служебная организация. Кивер набекрень, сабля при колене, темляк до земли, – он любил сначала побушевать; но истинное призвание его было не в одну сторону, а направо-налево. С первой попытки он так ловко держал в горсти книгу судеб, называемую колодой, так ловко, по-юпитерски, метал, что вся собратия подрывающих банк восклицала: «Славно мечет! чудно мечет!»
Эти возгласы заложили навсегда банк в голове Дмитрицкого. Для него просто была мука, когда отрывали его от дела, не только службой, но и глупым обычаем закусывать, обедать, пить чай и ужинать.
Бросая с досадой карты, он всегда восклицал, вставая из-за стола: «Только и думают, что набивать пузо! точно голодные собаки бегут к корму! как будто нельзя тут же перекусить чего-нибудь!»
Счастье ли не везло Дмитрицкому, или бедовая страсть метать банк до тех пор, покуда он не лопнет, только Дмитрицкий постоянно был оборван. Он не сердился на то, что жалованье его всегда было проиграно вперед за треть; не горевал и о том, что в гардеробе его оставался только старенький мундир с мишурными принадлежностями, годный только для манежа; но он сердился, что явный недостаток в деньгах прекращал игру и ему ничего не оставалось делать, кроме как сказываться больным и, завернувшись в шинель, лежать врастяжку на одре тоски. Сидеть бездельником подле стола, смотреть, как играют другие, и спокойно покуривать трубочку – на это Дмитрицкий был не способен. Когда он начинал жаловаться на голову, то это значило, что у него на квартире чистота и опрятность. На деревянном диване разостлан старый вальтрап[1]; в головах кожаная подушка, вылощенная головой; у стенки еловый столик; на окне продутая трубка, а подле нее в жестяной сахарнице табачные окурки, как воспоминание счастливых дней изобилия в табаке. Тут уже нет ни чемодана, ни разбросанного платья, ни рассыпанного повсюду вахштафу[2], ни дыму, в котором можно коптить окорока, ни кухенрейтерских пистолетов, ни солингенских сабель, ни лазарининского ружья, ни охотничьей собаки. Тут только Дмитрицкии, расслабленный душой и телом, наполняет собою пустоту; то положит руки под голову, глаза в потолок; то вскочит, набьет табачных окурков в трубку, затянется, плюнет и снова заляжет. И в самом деле, возможно ли Дмитрицкому показываться на белый свет в полном здоровье и тишине души: что стал бы он отвечать на вопрос: «Что ж, брат, банчику?» Не отвечать же: «Что, брат, денег нет!» Да это такой стыд, что ужас. После этого никуда глаз не показывай, чтоб не опросили с сердечным участием: «Что, брат, денег нет? что ж, брат, дудки есть».