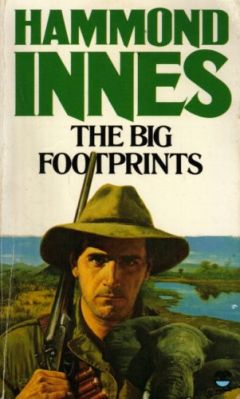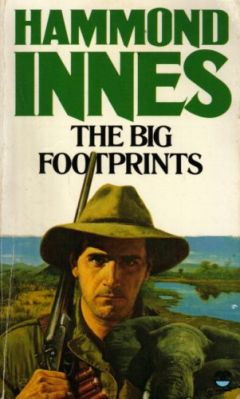Збигнев Ментцель - Все языки мира
В трубке раздался пронзительный треск. Уже много месяцев у отца был неисправен аппарат, и хотя я привез ему два новых, он не решался заменить ни одним из них старый. И мастера, чтобы исправить повреждение, вызывать тоже не хотел.
— Алло! — услыхал я. — Теперь лучше? Слышишь?
— Слышу. Говори, папа. Как дела?
— A-а, не спрашивай. Ночь была ужасная.
— Что случилось?
— Ничего. Не мог заснуть. До пяти глаз не сомкнул. Только под утро немного вздремнул.
— Спокойно, пап… — я не знал, что сказать, чтобы успокоить отца.
— «Пап, пап»… — рассердился он. — Сколько раз я просил так меня не называть. Ты же знаешь, я терпеть этого не могу.
— А как прикажешь к тебе обращаться? «Отец» и на вы? Я ведь мать тоже всегда называл «мам».
— Называй, как хочешь. Теперь мне уже все равно.
Всякий раз, когда отец брал меня в профсоюзный дом отдыха, из года в год в одно и то же место на Висле (пятьсот шестьдесят шестой километр вниз по течению, если считать от истока), мы каждые два-три дня ходили на почту в Голавин и заказывали междугородний разговор с Варшавой.
Хотя почту от нашего дома отделяли всего каких-нибудь сорок километров, ждать соединения приходилось долго. Заведующий почтой крутил ручку аппарата, соединялся с телефонной станцией, называл заказанный номер, пока, наконец, через час, если на линии не было повреждений, отец входил в кабину, снимал со стены трубку и начинал разговаривать с матерью. Иногда между ними повисало молчание, и тогда телефонистка, которая, видно, где-то на станции все время контролировала связь, кричала в трубку:
— Говорите? Говорите?
— Говорю! Прошу не прерывать! — злился отец, но через минуту в трубке снова отзывался голос телефонистки, еще более настойчивый:
— Говорите? Говорите?
— Говорю! — орал отец, багровея от злости. — Говорю! Говорю!
— Алло, — услышал я отца. — Ты здесь?
— Здесь. Говори. Я слушаю.
— У меня к тебе просьба.
— Какая?
— Ничего особенного, — отец, по своему обыкновению, не говорил прямо.
— Что тебе нужно, пап? Скажи.
— Что мне нужно? Чтобы ты перед уходом хорошенько почистил обувь. И чтоб не опоздал.
— Хорошо, — сказал я. — Буду у тебя ровно в двенадцать.
Чистка обуви, укладывание чемоданов… За всю жизнь я не встречал человека, который бы укладывал чемоданы лучше моего отца.
Первое правило, втолковывал он матери, всегда брать с собой как можно меньше вещей.
Мать не желала придерживаться подобных правил. Перед каждым отъездом в санаторий, где она лечила верхние дыхательные пути, она набирала столько вещей, что нечего было и думать о том, чтобы вместить их в один чемодан.
— Это уже всё? — спрашивал отец, глядя на гору одежды, высящуюся на полу рядом с раскрытым чемоданом.
— Всё, — говорила мать и немедленно добавляла к груде очередное платье.
— Теперь на минутку оставьте меня одного, — просил отец и, словно намереваясь исполнить в одиночестве какой-то таинственный обряд, запирался в комнате.
Спустя полчаса он открывал дверь и предъявлял нам упакованный чемодан, который был таким тяжелым, что носильщику приходилось вносить его в вагон на спине.
Чистка обуви, укладывание чемоданов… Меня долго не покидало ощущение, что на самом деле отцу хорошо удавалось в жизни только это.
Две пары туфель, черные и вишневые, служили ему пятьдесят лет. На них бессчетное количество раз меняли подметки, набивали железные косячки, и они до сих пор стояли под табуретом на распорках, неизменно начищенные до блеска.
Мать утверждала, что, если бы дедушка в нужный момент сумел продать кому-нибудь два своих рецепта на изготовление безотказной сапожной ваксы — «обыкновенной» и «с моментальным глянцем», — у нас бы денег куры не клевали.
Вакса обыкновенная:
1,5 кг костяной черни
9 кг сажи
1 кг измельченной гуттаперчи
0,5 кг стеарина
2 кг сенегальской камеди
нитробензол
Вакса с моментальным глянцем:
1 кг рафинированного шеллака
1 кг спирта
1,5 кг венецианского скипидара бересклетовое масло
Отец никогда не пользовался ваксой. По правде сказать, он и гуталином «Киви» никогда не пользовался. Для чистки обуви ему служило самое обыкновенное молоко, по стакану которого он — для здоровья — выпивал также утром и вечером.
Глядя на сверкающие, пропитанные молоком туфли, стоящие в прихожей, я все чаще думал о том, что, когда отец умрет, черная пара отправится с ним в могилу, вишневая останется на распорках под табуретом, а я не буду знать, что с нею делать.
7
Первая буква алфавита
Когда мне исполнилось девять лет, мать начала терять терпение. Самое время, повторяла она, мне наконец сказать свое «а». Самое время двинуться в надлежащем направлении. А уж она попробует меня подтолкнуть. Предназначению нужно помочь.
В тот год в Риме проходили Олимпийские игры, и отец купил телевизор марки «Висла». Телевизор был черно-белый, но, когда побеждали поляки и на самой высокой мачте взвивался наш флаг, мне казалось, что я вижу все в цвете. На Олимпиаде мы завоевали четыре золотые медали. Четыре раза в нашу честь в Риме играли «Мазурку Домбровского»[21]. Всякий раз отец, растроганный до слез, стоя навытяжку перед телевизором, пел гимн:
Вперед, вперед, Домбровский,
С итальянской земли в Польшу…
Когда в беге на три тысячи метров с препятствиями Здзислав Кшишковяк победил двух лучших стайеров Советского Союза, Ржищина и Соколова, я пел вместе с отцом. Бег был потрясающий. Мы, затаив дыхание, следили, как на последнем круге, перед самым рвом с водой, Кшишковяк, сделав внезапный рывок, обходит Ржищина, а на последней прямой легко отрывается от Соколова и первым пересекает линию финиша.
— Урааааа! — кричали мы. — Ураааа!
Мать смотрела на нас как на ненормальных. Она терпеть не могла спорт и хотя, в порядке исключения, позволила уговорить себя поглядеть на Кшишковяка, ей стало так скучно, что через пять минут она повернулась к экрану спиной.
— Носится, как кошка, задравши хвост… — пробормотала она, когда Кшишковяк совершал по стадиону круг почета. — Какой в этом смысл?
— Как это — какой? — разволновался отец. — Знаешь, сколько труда надо вложить, чтобы получить золотую олимпийскую медаль? Знаешь, какое требуется самопожертвование, чтобы победить сильнейших? Кшишковяк победил, потому что долгие годы упорно работал над собой.
— Кто победил? — спросила мать.
— Кшишковяк! — хором крикнули мы с отцом. — Поляк! Поляк выиграл! Победил русских! Понимаешь? У нас золотая медаль!
— Ну и что с того? — мать пожала плечами. — Скажите мне, много ли толку, что какой-то Кшишковяк гоняет наперегонки с другими по стадиону? Сегодня выиграл, завтра проиграет, и все о нем забудут.
— Я никогда не забуду Кшишковяка, — сказал отец. — И он будет помнить! — ткнул он в мою сторону пальцем. — Увидишь. Он даже Ржищина будет помнить.
Хотя я мог по первой просьбе перечислить фамилии всех победителей римской Олимпиады и даже результаты, которые каждый из них показал в полуфинале и финале, спорт не был моим предназначением. В школе на физкультуру я не ходил. Врач выписывал мне освобождение сразу на целый год. У меня был врожденный порок сердца, пониженный иммунитет, часто шла кровь из носа. Ватные тампоны и ляписные палочки для прижиганий были разбросаны по всему дому, а на подзеркальнике в жестяной коробочке всегда лежал наготове шарик из пергамента, который при кровотечении я должен был как можно быстрее засунуть под язык.
Мать без конца мне напоминала, чтобы я ходил с высоко поднятой головой, поскольку, стоит ее опустить, из носа тут же потечет кровь. Даже парикмахер Рышард в салоне на Инженерской вынужден был стричь меня не так, как всех, и мать за труды всегда давала ему сверх положенного.
Боже, как я стеснялся ходить в парикмахерскую! Какие муки, дожидаясь своей очереди, переживал. Всякий нормальный мальчик, садившийся в кресло, как только ему на плечи набрасывали белую простыню, низко наклонял голову и, с обнаженным затылком, обретал торжественный вид жертвы, предназначенной на заклание, я же торчал как чурбан на двух подложенных мне под задницу подушках и пялился на свое отражение в зеркале.
Парикмахер Рышард, ровняя волосы у меня на затылке, присаживался на корточки.
— Кем ты хочешь стать, когда вырастешь? — спрашивал он, щелкая ножницами и бесцеремонно задирая мой подбородок, когда я, пунцовый от стыда, пытался хоть на секунду опустить голову. — Может быть, парикмахером? Нравится тебе здесь? Пойдешь ко мне в ученики?
Кем я хочу стать, когда вырасту? Я понятия не имел. Мне исполнилось девять лет, и даже мать, свято верившая, что из всей нашей семьи именно я дальше всех пойду в жизни, еще не решила, в каком направлении меня подтолкнуть.